|
Феликс Фельдман
|
|
| ledola | Дата: Суббота, 16 Дек 2017, 08:43 | Сообщение # 26 |
 Долгожитель форума
Группа: Модератор форума
Сообщений: 10688
Статус:  | Цитата Phil_von_Tiras (  ) "Персональное дело" это ведь сатира на графоманство, здесь главный герой выполняет вспомогательную роль.
Я это поняла, Феликс. 
А зверь обречённый,
взглянув отрешённо,
на тех, кто во всём виноват,
вдруг прыгнет навстречу,
законам переча...
и этим последним прыжком
покажет - свобода
лесного народа
даётся всегда нелегко.
Долгих Елена
авторская библиотека:
СТИХИ
ПРОЗА
|
| |
|
|
| ilchishina | Дата: Суббота, 16 Дек 2017, 13:40 | Сообщение # 27 |
 Долгожитель форума
Группа: Постоянные авторы
Сообщений: 5212
Статус:  | Цитата Phil_von_Tiras (  ) Гоша
Цепляет душу.
"Счастье не пойдет за тобой, если сама от него бегаешь."А.Н.Островский
--------------------------------
С уважением. Зинаида
|
| |
|
|
| Phil_von_Tiras | Дата: Суббота, 16 Дек 2017, 17:27 | Сообщение # 28 |
 Житель форума
Группа: Постоянные авторы
Сообщений: 1147
Статус:  | Зина, добрый день. Давно не виделись. За чувства спасибо.
Дух дышит, где хочет.
Моя авторская библиотека
Сообщение отредактировал Phil_von_Tiras - Суббота, 16 Дек 2017, 17:27 |
| |
|
|
| strong | Дата: Понедельник, 18 Дек 2017, 10:55 | Сообщение # 29 |
 Постоянный участник
Группа: Постоянные авторы
Сообщений: 305
Статус:  | ЯБЛОЧКО
Светлый рассказ. Чувствуется атмосфера – атмосфера детства.
Только: «проложен мост» - может, перекинут или построен. Прокладывают трубу, дорогу.
ВАМ, ЛЮБИТЕЛИ ФАНТАСТИКИ
https://soyuz-pisatelei.ru/forum/262-15818-7
|
| |
|
|
| Phil_von_Tiras | Дата: Понедельник, 18 Дек 2017, 16:34 | Сообщение # 30 |
 Житель форума
Группа: Постоянные авторы
Сообщений: 1147
Статус:  | Цитата strong (  ) ЯБЛОЧКО
Только: «проложен мост» - может, перекинут или построен. Прокладывают трубу, дорогу.
В самом деле. Исправил. Спасибо.
Дух дышит, где хочет.
Моя авторская библиотека
|
| |
|
|
| Phil_von_Tiras | Дата: Четверг, 21 Дек 2017, 15:43 | Сообщение # 31 |
 Житель форума
Группа: Постоянные авторы
Сообщений: 1147
Статус:  | !
Дух дышит, где хочет.
Моя авторская библиотека
Сообщение отредактировал Phil_von_Tiras - Четверг, 21 Дек 2017, 15:48 |
| |
|
|
| Phil_von_Tiras | Дата: Четверг, 21 Дек 2017, 15:48 | Сообщение # 32 |
 Житель форума
Группа: Постоянные авторы
Сообщений: 1147
Статус:  | Цитата strong (  ) Люблю читать воспоминания, мемуары… особенно творческих людей. Их становление, первые шаги. Иногда даже больше самих произведений.
Теперь буду частым вашим гостем.
Здравствуйте, Генадий. Рад видеть вас в гостях, но то, что вы сочли за мемуары, отнюдь не мемуары в прямом смысле слова. Конечно, всякий рассказ базируется на каких-то фактах, но факты служат только толчком. В остальном работает художественная установка автора, определённая цель и выбранные для решения этой цели средства. Выходит, что я Вас по-хорошему обманул.
Впрочем, я больше пишу стихи, чем прозу. Приходите и туда.
Дух дышит, где хочет.
Моя авторская библиотека
|
| |
|
|
| Мила_Тихонова | Дата: Вторник, 27 Фев 2018, 00:01 | Сообщение # 33 |
 Долгожитель форума
Группа: Постоянные авторы
Сообщений: 19783
Статус:  | Цитата Phil_von_Tiras (  ) Кубанский борщ
ах ты рыба, не скажу какая!
это ты над моим рецептом так надсмеялся?
поймаю - накажу!
и Свете нажалуюсь!
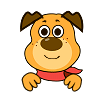
Играть со мной - тяжёлое искусство!
|
| |
|
|
| Сокол | Дата: Вторник, 27 Фев 2018, 00:12 | Сообщение # 34 |
 Зашел почитать
Группа: Постоянные авторы
Сообщений: 46
Статус:  | Цитата Мила_Тихонова (  ) это ты над моим рецептом так надсмеялся?
поймаю - накажу!
и Свете нажалуюсь!
Да я давно этот борщ съел, хоть и резал кусками. Сам варил, сам виноват.
Свете не говори, она про борщ ничего не знает.
|
| |
|
|
| Мила_Тихонова | Дата: Вторник, 27 Фев 2018, 00:15 | Сообщение # 35 |
 Долгожитель форума
Группа: Постоянные авторы
Сообщений: 19783
Статус:  | ой... это кто? 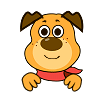
Играть со мной - тяжёлое искусство!
|
| |
|
|
| Phil_von_Tiras | Дата: Вторник, 27 Фев 2018, 00:28 | Сообщение # 36 |
 Житель форума
Группа: Постоянные авторы
Сообщений: 1147
Статус:  | Цитата Мила_Тихонова (  ) ой... это кто?

Какие-то пёсики слева. Сам не знаю. Отвечал со странички Светы -- они и выползли.
Дух дышит, где хочет.
Моя авторская библиотека
|
| |
|
|
| Мила_Тихонова | Дата: Вторник, 27 Фев 2018, 00:46 | Сообщение # 37 |
 Долгожитель форума
Группа: Постоянные авторы
Сообщений: 19783
Статус:  | Цитата Phil_von_Tiras (  ) Отвечал со странички Светы
эх ты, конспиратор)))
Играть со мной - тяжёлое искусство!
|
| |
|
|
| Phil_von_Tiras | Дата: Пятница, 02 Мар 2018, 14:09 | Сообщение # 38 |
 Житель форума
Группа: Постоянные авторы
Сообщений: 1147
Статус:  | Шлёма и Шлима
Шлёма и Шлима? Да это ведь простонародные имена. Если напишете древнееврейским шрифтом, то их не различить. Потому что начертанные, они состоят из одних согласных. Шлёма, на иврите Шломó с ударением на последнем слоге. То есть Соломон. Неплохо, правда? Тот, который построил первый в мире Святой храм Богу в Иерусалиме. И имя это – означает мир.
С именем Шлима посложней, и его библейского аналога ещё никто не нашёл. Как вы думаете, может быть от шлимазл? Есть такое слово в языке идиш и означает оно неудачник, недотёпа. Однако, возможно его значение из древнееврейского: шейлéм мазáль? Переводится – полное счастье. Ах, наверно, и то и другое. По обстоятельствам.
Шлима Пенёк, которой стукнуло пятьдесят, живёт в Тирасполе и работает в местном почтовом отделении. Город возник на левом берегу Днестра из крепости, которая была построена по особому распоряжению самого Суворова. Тирас – греческое название реки, а поль. Ну, это знает каждый. Поль от греческого полис – город.
Если кто-то хочет удивиться, а может быть и посмеяться над фамилией Шлимы, то здесь женщина ни при чём. Она унаследовала её от мужа, который не вернулся с войны. Конечно, о гибели мужа пришло извещение, где сообщалось, что старшина Велв Моисеевич Пенёк в бою за Социалистическую Родину, верный Воинской присяге, проявив геройство и мужество... Но Шлима, подобно другим матерям и жёнам, не верила и надеялась.
Каким прекрасным был день лета 45-го. Площадь Победы – переполнена людьми. Цветов в руках встречающих так много, что воздух кажется медово-густым от их аромата. Бойцы в гимнастёрках со скатанными шинелями через плечо спрыгивают с грузовиков прямо в объятия людей. Все стали вдруг и сразу родными. Какими красивыми казались тогда мужские лица. Какими стройными смотрелись в своих стареньких и, порой, нелепых платьях женщины. Пришла с букетом цветов и Шлима. Но Велвла не было. По лицу её катились слёзы. Однако, не слёзы счастья, и она машинально отдала свой букет случайному человеку.
Шлима и Велв были такими юными перед началом войны, их совместная жизнь – так коротка, что даже не успели зачать ребёнка. Так и осталась она в одиночестве, вдовой на долгие годы.
А Шлёма?
Люди, я не знаю, верите ли вы в Бога. Может быть вы не верите в Бога, но вы верите в судьбу. Или вы верите Мойрам и другим греческим богам и богиням. Но букет цветов от Шлимы, который получил первый попавшийся солдатик, был Шлёма. Он был родом из Бессарабии. Как этот парень сумел пройти всю войну, щуплый, неловкий, не геркулес и остаться в живых? Или не попасть в плен? Рыжий. Но что значит рыжий?! Светофор. В солдатской землянке можно было не зажигать лампаду. И без неё светло. Нет, Шлима не запомнила этого солдата. Надо ей это? Её Вэлв был красавцем. Силач, ростом метр восемьдесят. Он, чудак брал её, лёгкую, изящную на руки и так ходил с ней по двору, не желая расставаться. Шлима прятала своё лицо у него на груди, обхватив руками за шею, и смущённо шептала: «Вэлв, соседи, дети...».
Да...
Но Шлёма запомнил Шлиму. И забыть больше не мог. Она ведь была еврейской красавицей. Такой она оставалась и многие годы спустя, хотя и пополнела. Лицо – «ви мильх унд блут», кровь с молоком, говорят евреи. Несмотря на полноту, оно не имело второго подбородка. Природа подарила ей гармоничное сложение и сохранила талию. Красивые полные руки её изящно взлетали, когда она закручивала на затылке каштановые пряди волос, ещё не по возрасту блестящие и мягкие. Те же небесные источники снабдили её неунывающим характером. Хотя она никогда не забывала своего Вэлвла, но постепенно успокоилась и вела одинокий образ жизни. С людьми всегда была готова к услугам.
Остаётся непонятным, как Шлёма долгие годы, осторожно расспрашивая своих клиенток, Тирасполь в те времена был небольшим, следил за ней и не решался познакомиться. Думал, куда уж ему со свиным рылом да в калашный ряд. Рыло, правда, было кошерным и не свиным по виду. За эти годы он поправился, покруглел, что сгладило остроту его черт. Появился небольшой животик, но не такой, чтобы застегивать ремень от брюк под ним. Волосы из ярко-рыжих стали тёмно-золотистыми. Невысокого роста он казался всё же пропорциональным. Но главным достоинством его внешности были глаза. Они светились голубизной и покорностью.
Сразу после войны Шлёма пошёл в ученики к известному в городе портному закройщику, потом что-то ещё закончил с получением диплома и стал неплохим мастером. Он, как и Шлима, оставался одиноким, но не вдовцом. Женат он никогда не был. Жил Шлёма в однокомнатной квартире с земляным полом на улице Свердлова 20. Через общую стенку к комнате примыкала фруктово-овощная база, которая поздним летом и осенью превращалась в торговую точку. Шлима жила на этой же улице, но метров на 300 дальше, за гаражами пожарников. Знала ли она Шлёму, он ведь был портным и жил недалеко? Да бог его знает. Может быть и слышала о нём, а может быть и нет. Позволить себе шить у портного она не могла.
Удивительное дело эта улица. До войны здесь и вокруг на примыкающих к ней улочкам жили довольно компактно евреи. Это были ремесленники или мелкие предприниматели, каких ещё терпела советская власть. Например, как их стали называть позже, семейные подряды: булочников, кондитеров, сапожников, жестянщиков или стекольщиков. Евреи, конечно же, друг друга знали, дружили семьями. Обитали в собственных домишках, которые потом разбомбила, растерзала, изуродовала война. Но, возвращаясь из эвакуации, остатки этих семей стремились, словно рыбы на нерест, к своим развалинам. Худо или бедно им это удавалось. И они заселяли выжившие дома и дворы, где звучала только одна речь – на идиш. Малые детишки сорванцы орали жаргоном на всю улицу, едва понимая что-либо по-русски. Это продолжалось недолго. Но было. В конце концов, не политика русификации, а прежде всего война объединила советских людей в русском языке. Он вытеснял идиш, но он не мог выдавить еврейские традиции, привычки, семейный уклад. А политика государства всё более загоняла весь этот аромат в подполье. Кроме непобедимого акцента.
В одном из таких дворов и жила Шлима. К этому времени в нём ютились в своих гнёздах, кроме евреев, русские, обрусевшие украинцы и молдаване, также частично обрусевшие. Небольшой палисадничек отделял её уголок от остального двора.
Именно теплым осенним днём произошло то, о чём безнадёжно мечтал многие годы Шлёма. Случилось так же обыденно, как осенний дождик. Он увидел её из окна своей комнаты нагружённой двумя тяжёлыми сумками овощей не столько для себя, сколько для соседей, так как она не умела отказывать. Но сегодня они с заданиями и просьбами перестарались. Шлёма не в силах был поступить иначе. Он не мог этого видеть. Его, как он думал, Шлима, кому он мысленно шил самые красивые и нарядные платья. Шлима, для которой он выискивал в журналах модели высшей марки из шерстяных и твидовых тканей и с замиранием сердца, зажав в зубах нитку с иголкой, делал ей в мечтах своих первую примерку. Мог ли он допустить, чтобы она так надрывалась?
Шлёма даже не осознал, как оказался подле неё и, напугав своим напором, ухватился за сумки.
– Позвольте, Шлима, – сказал он волнуясь.
– Молодой человек, – в испуге она отшатнулась, – вы мне сделали...– Шлима хотела сказать больно. Но осеклась. Он ведь назвал её по имени. Разве они знакомы?
– Ну, что вы, что вы. Как это можно? – запротестовала она.
– Я имею очень просить, Шлима, позвольте немножко вам помогать. Только ык дому.
– Если ви думаете, что я бандит, так нет, – рискнул он пошутить. – Я мирный портной. И продолжал уже бубнить вполголоса на идиш.
– Аза а лэмэлэ. А ымглик. Вус тун ди шхэйнм трахтн фун зих? (Такая овечка. Несчастье. Что себе думают соседи?). Родной язык смутил Шлиму, и она уступила. А Шлёма ещё несколько раз должен был преодолевать её сопротивление, чтобы донести тяжёлую поклажу до самого палисадничка.
Во дворе у Шлимы никого из соседей не было, кроме назойливой Фейги, которая развешивала бельё на протянутой между двумя деревьями общедворовой верёвке. Увидев Шлиму с кавалером, её губы растянулись в лукаво-сладкой улыбке. Чтобы не упустить случай выведать из новой ситуации побольше для будущих сплетен, она схватила Шлиму за руку и затарахтела.
– Ты подумай, Шлима, на моего шлимазл, – начала она нескончаемую песню о своём великовозрастном сыне, который, по её мнению, засиделся у неё на шее. И продолжала на идиш. – Эр вет амул хасн вен ди хур вакст ин ди длоние фун зейн хант (Он тогда женится, когда вырастут волосы на ладони). Эта Молкалы, скажи, Шлима, ну чем она ему не невеста. Дай бог мне такую жизнь, как хорошо отзываются о ней люди. Не сглазить бы... И что? Семья её, упаси бог, бедная? У неё ж такое приданное, что я бы пожелала половину того каждой хозяйке...
– Ах, перестань, Фейга. Не всё же богатство. Азохн вэй! А глик от им гетрофен (Горе. Ну и счастье ему привалило). Девка косит на оба глаза, одна нога сухая, и сэхл (разум) не больше, чем у коровы.
– Ша, тьфу на тебе, Шлима! Гот мит эйн нант штрофт, мит дэ андере хейлт (Одной рукой Бог карает, другой исцеляет). Что же мне всю жизнь мучиться с ним на белом свете. Пусть мои лейдн (страдания) ему боком выйдут, огонь ему в живот.
– Вот тебе на, Фейга, – не выдержала Шлима при чужом человеке. – Ты не обижайся, но я тáки скажу. Ир зент а шлехте момы (ты плохая мать). С этими словами Шлима знаками показала Шлёме, что надо быстрее скрыться за дверью, чтобы не получить вдогон отборного русского мата, приглушённые отзвуки которого донеслись до них уже с другой стороны.
Ах, эта Фейга. «Уголь – для жару, а дрова – для огня; а человек сварливый – для разжжения ссоры», – говорится в Притчах соломоновых.
Удача второй раз улыбнулась портному. Ему позволили войти в храм к принцессе. Нет, к королеве. Жильё женщины это ведь аттестат зрелости. Нет, это её диплом и, если вы проницательный человек, то половину о ней вы узнаете уже до начала совместной жизни. А что представляет собой вторая – это, конечно, только потом.
Гость есть гость, а еврейское хлебосольство не хуже грузинского. Восток. Было обеденное время, но, поскольку день выдался жарким, Шлима предложила для начала по чашечке густого зелёного чая.
Шепну вам на ушко: молчаливый Шлёма ей понравился.
После чая Шлима подала гостю бульон с лапшой, пирог с куриной печёнкой и гусинным жиром. А потом ещё цимес и стаканчик вишневки, которую она настаивала по собственному рецепту.
– Их вилн ир заген, Шлимэ (я хочу вам сказать, Шлима), – восхитился разомлевший гость, – ви фил их геденк зих, их хаб нит гегесн аза гешмак цимес. Ойх их вет загн ир, эс из тáки эхт цимес (я хочу вам сказать, Шлима, сколько я себя помню, я не ел такого вкусного цимеса. И я вам скажу, это действительно подлинный цимес).
Застолье всегда располагает душевно близких людей. Из деликатности следовало, хотя бы формально, пригласить гостя ещё раз, к тому же назло Фейге, острый язычок которой не щадил и одиночества Шлимы. Для Шлёмы это был царский жест. И он явился. Пришёл через неделю, тихонько уселся в палисадничке на скамейке, что стояла вдоль стены и слева от входной двери, и ждал. Потом он мог сидеть так часами, терпеливо дожидаясь появления Шлимы. Иногда просто, чтобы сказать «здрасти» и уйти, якобы заторопившись по неотложному делу. Он приходил, сидел и ждал, даже если её не было дома. Близость её гнёздышка грела ему сердце. Они часто сидели и вместе. Просто так. Сидели и молчали. Пару слов и молчок.
И что она? Букет цветов на площади Победы, не он ли оказался эстафетной палочкой, которую вручила Шлиме сама судьба? Но об этом она задумалась позже.
Вечерами они играли в карты, в подкидного дурака. Сидели за круглым столом, который помещался посреди комнаты напротив окна во двор. Он выполнял всевозможные бытовые службы и не только для приёма пищи. А за ним в углу возвышалась кирпичная печь, которая отапливалась дровами и углем. К её противоположной от стены боковой части примыкала полуторная кровать с пышными подушками и расшитым покрывалом. Шлёма понимал в карточной игре и знал с десяток приёмов мухляжа, но он никак не мог допустить, чтобы проиграла Шлима. Это что же, она с его подачи будет дурой?
– Шлоймеле, – смеялась Шлима, – что вы делаете вид, что вы маленький ребёнок и не умеете играть в карты. И она заглядывала ему в глаза, которые светились голубизной и покорностью. А он ловил её взгляд, ощущал её присутствие и тихая радость наполняла его грудь.
Ему очень хотелось пошить ей нарядное платье. Уж он знал, какой фасон и цвет подойдут ей лучше всего. Но она, смущаясь, отнекивалась, понимая, что денег с неё он не возьмёт. Решилась на простой домашний халат, чтобы просто уступить. Но Шлёма всё-таки уговорил её на летний сарафанчик. Тогда, на примерке он привычным движение взял в руки сантиметр, профессионально охватил им область груди, сомкнул руки и... И вдруг вздрогнул. Она это почувствовала, замерла, покраснела. Это длилось мгновенье, но миг был многозначащим для обоих. Что-то серьёзное сдвинулось, и это что-то было семейным прологом.
Позже Шлима вспоминала, как смешно он хватал пустые вёдра и бежал наполнять их к водопроводной колонке, которая была расположена на улице и довольно далеко от её дома. Как же, чтобы его Шлимеле таскала вёдра? Она вспоминала, как он, растапливая печь, усиленнно дул в топливник, а из зольника в лицо ему брызнуло сажей, и они вместе хохотали, как дети. Как же, разве королевское это дело растапливать холодную печь? Шлимеле. Его. Слово «его». Шлёма не заметил, как это притяжательное местоимение помимо воли незаметно спустилось с небесных чертогов недоступной раньше королевы на землю и стало магнетической плотью, которую ему хотелось уже не только в мечтах, в эмпиреях.
Миновала зима. Весной, после ледохода Днестр широко разливается, порой выплёскиваясь на ближайшие улицы города. Особенно достаётся правому его лесистому берегу. Но к Первому Мая вода уходит, река отфыркивается и, насыщенная земля, лес ликуют под благосклонным и добрым солнцем. Второго мая жители города спешат на маёвку к природе с сумками снеди и молдавского вина. Уже во всю ведут колоратурные партии соловьи. Лес, который называли кицканским, полон птичьего пения, радости и людских голосов. Уютных полян с буйством цветов, оставшихся от разлива озерков, тихо журчащих ручьёв хватает на всех. Шлима и Шлёма также не могли пропустить эту весенне-летнюю радость, песню весны в их собственных душах. Они будто слышали священные слова из Песни песней, написанные лично для них: «Вот, зима уже прошла; дождь миновал, перестал; цветы показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей;»
Они разыскали небольшую полянку, куда не доходили голоса людей, где можно было побыть без свидетелей, постелили на сочной бархатной траве скатерть, разлили в чашки красного душистого вина и, перекусив, прилегли, ещё немного смущаясь, под развесистым дубом. «Ложе у нас – зелень», могли процитировать они Песнь песней. «Кровли домов наших – кедры, потолки наши – кипарисы». Им было уже всё ясно. Они принадлежат друг другу, не Суламифь и её возлюбленный, а двое пожилых людей, прошедших через испытания тяжёлой войны, знавших и голод и смерть. Они не говорили друг другу главного слова: Шлёма, кто доселе никогда не знал любви и Шлима, которая давно забыла что такое любовь.
Просидели до самого вечера, окрылённые внутренне созревшим решением. Лёгкий прохладный ветерок напомнил им, что и солнышко спустилось вниз за деревья. Оно протянуло им на прощанье золото рук своих сквозь частокол ветвей, заигрывая с рыжими волосами Шлёмы. Замолкал постепенно щебет птиц и удлинились тени. Не дожидаясь, пока полностью погаснет светило дня, они заторопились домой, и Шлима вновь заглянула в его глаза, которые светились голубизной и покорностью. Перехватив умоляющий взгляд, она сказала: «Оставайся.»
Природа не нуждается в инструкциях, скажу я вам. Но...
Люди, вы не поверите. Шлима была его первой женщиной. Нет, нет, он однажды попробовал, подавшись общему настроению мести и вольницы. Это случилось в Германии, когда он предложил старой толстой немке две банки тушёнки за услуги. Говорил с ней на идиш, та удивилась выговору и хотела узнать, что это за диалект такой, но согласилась. Однако, соседка застучала в дверь и чего-то настойчиво просила, тётка нервничала, торопила его, и он так ничего и не понял.
А теперь, когда мечта сбылась, он волновался как юноша. От неожиданного бессилия, из-за отчаяния по его щекам текли слёзы. Он ненавидел себя, всю холостяцкую жизнь, свою непорочность, робость а она, языком слизывала его слёзы, обнимала, целовала и шептала: «Шлоймеле ты же самый замечательный на свете. Из эс, глупенький, азой вихтик? (Разве это так важно?). Мейн зисер, мейн фаргенигн, мейн хаис» (Мой сладкий, моё наслаждение, моё блаженство)...
Они стали как одно целое, душевно похожие, как согласные в их именах. Шлм = Шлм, справа налево. Это ведь так по-еврейски. Ничего лишнего. Их имена – мир плюс полное счастье. Без гласных. Гласные расставляет жизнь.
Я так рад за них. Мазл тов (счастья вам), молодожёны.
Дух дышит, где хочет.
Моя авторская библиотека
|
| |
|
|
| ledola | Дата: Понедельник, 04 Фев 2019, 09:03 | Сообщение # 39 |
 Долгожитель форума
Группа: Модератор форума
Сообщений: 10688
Статус:  | Цитата Phil_von_Tiras (  ) Шлёма, на иврите Шломó с ударением на последнем слоге. То есть Соломон.
Интересно, слово "шалом" тот же корень?
Цитата Phil_von_Tiras (  ) В конце концов, не политика русификации, а прежде всего война объединила советских людей в русском языке.
как верно!
Цитата Phil_von_Tiras (  ) Только ык дому.
наверное, опечатка...
***
Чудесно, Феликс! прям мороз по коже - до чего хорошо!!
А зверь обречённый,
взглянув отрешённо,
на тех, кто во всём виноват,
вдруг прыгнет навстречу,
законам переча...
и этим последним прыжком
покажет - свобода
лесного народа
даётся всегда нелегко.
Долгих Елена
авторская библиотека:
СТИХИ
ПРОЗА
|
| |
|
|
| Phil_von_Tiras | Дата: Воскресенье, 10 Фев 2019, 20:21 | Сообщение # 40 |
 Житель форума
Группа: Постоянные авторы
Сообщений: 1147
Статус:  | Цитата ledola (  ) Интересно, слово "шалом" тот же корень?
Цитата Phil_von_Tiras ()
В конце концов, не политика русификации, а прежде всего война объединила советских людей в русском языке.
как верно!
Цитата Phil_von_Tiras ()
Только ык дому.
наверное, опечатка...
***
Чудесно, Феликс! прям мороз по коже - до чего хорошо!!
Да, шалом с тем же корнем.
ык, ыв -- не опечатки. Румыны не могут произносить наши однобуквенные предлоги, поэтому добавляют в речи гласные.
И очень рад, что вам понравилось, Лена.
Дух дышит, где хочет.
Моя авторская библиотека
|
| |
|
|
| Phil_von_Tiras | Дата: Понедельник, 01 Июл 2019, 18:38 | Сообщение # 41 |
 Житель форума
Группа: Постоянные авторы
Сообщений: 1147
Статус:  | Енот
Я* сижу в овальном зале и смотрю в окно, в ту сторону, где пару недель назад произошло то, что своей непонятностью сверлит мне голову. Собственно, событие по местным масштабам ординарное, почти бытовое. Не оно вызывает непонимание, а моё состояние после него.
Овальный зал находится в графском доме, который периодически посещаем мной в различные времена года. В нём живут мои старые знакомые, можно сказать друзья, граф и графиня... Назову их по старинке N.
К садовому фасаду дома примыкает парк с прудом, в котором водятся карпы и ещё какие-то мелкие рыбы.
Я люблю этот парк. В цикле «Парк на двоих» он был описан мной так:
Деревья спят, и утро в дрёмной сказке.
Сад заворожен феей на века.
И только, вроде, по её подсказке
на холмике за ним издалека
анютины подглядывают глазки.
С рассветом солнца луч еще не жаркий,
цветные заточив карандаши,
зарю штрихует розовым и в парке,
когда не видно ни одной души,
тайком ветвистые целует арки...
И далее:
С десяток стройных корабельных сосен
в молитве тянутся руками вверх
в бездонную, распахнутую просинь,
замаливая первородный грех,
застыв в печальном и немом вопросе...
Последние слова словно пророчили происшедшее и моё состояние после него. Теперь о парке.
От некогда величественного в английском стиле творения культурной осталась только часть. Остальная, одичавшая, ещё угадывается и лежит на участках по разные стороны современного хутора.
В далёком прошлом значительная территория: деревня, парк, поля, ныне засеянные пшеницей, лес, остатки которого ещё сохранились, деревня на противоположной стороне от федеральной 217-й дороги принадлежала богатой баронессе. А посреди всех этих реликтов за исключением графского дома, он был построен позже, до сих пор айсбергом возвышается старинный замок ‒ центр местного мироздания.
Да, когда-то в нём бурлила весёлая жизнь, устраивались балы, турниры. Роскошные одежды дам и кавалеров конкурировали с блеском залов и комнат. Свидетелями этой жизни остались картины, мебель и уникальная библиотека. Всё это перенесли в графский дом. Замок ещё хранил ароматы былой дворянской жизни, когда наступили иные времена. Его продали и он стал хиреть из-за ненужности. Я бывал в нём.
Впрочем, что значит бывал. Я тут жил. А в начале девяностых прошлого столетия в нём поселили еврейских эмигрантов из бывшего СССР, около трёхсот человек. И он снова ожил. Было много свободного времени, и я излазил замок, как говорится, вдоль и поперёк. Кроме огромного бального зала, превращённого в насмешку над дворянством в шумную общепитовскую столовую, в здании помимо заселённых комнат было ещё масса закоулков, не затребованных помещений и, главное, могучая, возвышающаяся над замком башня с тёмными кельями, переходами в чердачное запущенное пространство, где на крепёжной балке повесился один из неуравновешенных эмигрантов.
За последующие год-два эмигрантов расселили, а замок превратили в домициль для престарелых людей, типичное коммерческое предприятие, в котором ныне живут приблизительно 140 медленно умирающих стариков.
В этот приезд я по случайному обстоятельству вновь оказался в замке. Нутро башни, из амбразуры окна которой открывается вид на монументальный мрачный мавзолей, хранило в себе, я это вдруг почувствовал, упрёк и обиду. Уж не знаю на кого, возможно на повесившегося, или на то, что к нему пристроили обычное современное здание типа общаги. Это настроение я ощутил и в лесочке на левом фланге замка. Замок, мавзолей и лес как будто сговорились. Против меня ли?
Крупной живности: волков, лисиц в этом и в иных лесистых участках бывшего владения давно усопшей баронессы, конечно, нет. Но улепётывающих зайцев я видел. Прочей мелкоты также хватает.
Сейчас июнь. Как и тогда, когда писалось стихотворение. Но назойливо, после упомянутого события в голову лезла строка о замаливании греха. Собственно какого? И почему сосны застыли в немом вопросе? На что намекала мне Муза?
Как обычно, по утрам по гравиевым дорожкам парка я совершаю разминочную пробежку за пруд и снова к дому круга три-четыре, так, чтобы набралось километр-два пути. И затем к огромному, пожалуй, двухсотлетнему кедру. Под ним большая садовая белая скамья. Здесь можно остановиться для гимнастических упражнений. Этот кедр тоже реликт. Кстати, парк занесён в список охраняемых государством объектов. Ствол дерева настолько широк, что как-то нас, трёх мужиков не хватило, чтобы его обнять. Нижние ветви его достают до земли, образуя естественный шалаш, в котором находишь укрытие в жаркий солнечный день. И вообще эти ветви и не ветви, а деревья выросшие на теле гиганта. Для пернатых и обитателей дупел тем более неплохое жилище.
Когда, запыхавшись, я приблизился к кедру, положение скамьи мне не понравилось. Кто-то из недавних гостей перенёс её на другое, непривычное мне место. Протащить её немного волоком, хотя ножки её утопали в столетнем хвойном настиле, было ещё возможно, и я резво ухватился за боковую ручку скамьи, взглядом сосредоточившись на ней. И вздрогнул, остолбенел, когда услышал и одновременно увидел шипяще-рычащее на меня существо. В первый момент оно показалось мне разъярённой крысой. Я отпрянул. Крыс ненавижу, и никто не может меня уговорить, что они умны и тем заслуживают уважения. Зверёк стоял весь вздыбившись на вытянутых ножках. Очнувшись и несколько отойдя в сторону, я увидел, что он едва держится, да и мордочка была явно не крысиная. Настала очередь устанавливать добрососедские отношения. Стоять он больше не мог, и лежал, как-то неестественно подвёрнув под себя ноги. Я повёл примирительно ласковую речь, улыбался, отступил назад. Зверьку явно не нравилось, что я смотрю ему в глаза. В его же –выражалась откровенная враждебность. Он мне не верил, не доверял. И, как оказалось позже, был прав.
Что же оставалось делать? По внешнему виду этот строптивец был мне незнаком. К тому ж очень юн, возможно не так давно родившись. Я снял его на мобильник и пошёл к знакомому хуторянину, но какое-то тяжёлое чувство всё это время не покидало меня. Тот, взглянув, тут же изрёк по-немецки: Waschbär, то есть енот полоскун.
Ах, ты Боже мой! Крошка Енот... Советский мультик... Почему же ты не улыбнулся мне Крошка Енот, ёкнуло в груди?
Приговор хуторянина был жесток: " Его придётся убить. Он, видимо, выпал из дупла. Сейчас позвоню егерю". И он поведал мне, что в лесочке на окраине пшеничного поля обосновалась целая семья енотов. Здесь, мол, у них нет естественных врагов, только лишь человек. Они, во множестве размножаясь, причиняют хозяйству большой вред и, несмотря на запрет отстрела, егеря в особых случаях полномочны их уничтожать. К тому же он припугнул меня – не брать енота на руки: "Схватит за палец, откусит в одно мгновение. Зубы у него, как ножи".
Оставалось непонятным, если крошка енот вывалился из дупла кедра или, скорее, гнезда, то почему его покинула мать. Еноты прекрасно лазают по деревьям, их пятипалые лапы с длинными пальцами и когтями чуть ли не рука человеческая, и взять щенка за шкирку, утащить подальше от опасности матери не стоило труда. Впрочем, хвойные деревья не в фаворе у енотов. Откуда же он появился? Загадка оставалась неразрешимой.
Пришлось смириться и, в ожидании егеря, я вернулся к кедру. Малыш должно быть спал. Еноты ведь ночные охотники. Почуяв меня, он стал ворчливо хмыкать и почти по-пластунски начал двигаться к кедру. Перемещение давалось ему плохо, ножки подгибались и расползались в стороны. Спрятать его я уже не имел права и, когда преграждал крохе путь, он, превозмогая боль, вновь принимал агрессивную позицию, вытягивал шею и злобно рычал. Это в его-то годы. В глазах-бусинках прочитывалась тоска, будто он угадывал свою судьбу, а вытянутая вперёд мордочка была изумительно красива. Белобрысые надбровья, не доходящие до щёк, черный блестящий носик с кошачьими усиками и стоячие ушки, отороченные беловато-серым мехом, и всё это в младенчески милом облике. Красота сближает человека со зверем. Видимо, фундаментальные законы красоты у нас общие. Тем более законы жизни.
Я принёс ящик из детского песочника и накрыл зверька, чтобы не уполз. Пусть поспит перед смертью. Мучила совесть. Под ящиком темно, а я лишаю его белого света.
Егеря привёл уже знакомый хуторянин. Высокий, крепко сбитый уверенный в себе молодой человек держал в руках охотничий нож. Он приподнял край ящика, выманивая енота и, когда тот высунул голову, прижал её к траве. Затем прощупал ножом сонную артерию, проколол её и протолкнул нож далее. Кровь младенца была почти не видна, потому что втекала в землю. Туда, откуда в итоге все мы и вышли до первородного греха. В душе у меня похолодело. "Он ещё жив!" – сдерживая дрожь, воскликнул я минуты через две. Хоть бы убил мгновенно! Зверёк широко разевал пасть. "Это нервы, рефлекс", ‒ спокойно отпарировал егерь и посмотрел на меня с подозрением. Мол, суёте везде свой нос, защитники фауны и флоры. Я хотел ему возразить, но какая-то неведомая сила сжала извилины мозга и поселилась в нём. Мой язык застрял в гортани. Лицо егеря показалось мне преображённым, странным, нечто воландское.
Оставаться рядом я больше не мог. Кто-то или что-то управляло мною. Не я ушёл, а ноги увели меня прочь от места казни. Минут через десять, прижавшись носом к окну овального зала, я видел как оба шли из парка нечто оживлённо обсуждая. Егерь за пышный и короткий полосатый хвостик нёс, словно тряпочку, енота, слегка размахивая им. Уж не на шапку ли мех убиенного, подумалось мельком. Увидев меня, он криво усмехнулся, оскалив зубы. Хуторянин заискивающе заглядывал ему в лицо.
С этих пор не только ночью, но и днём меня стало преследовать тягостное чувство причастности к акту смерти. Я начал иначе видеть и обращать внимание на то, что раньше игнорировал. Будто мне открылась дверь в потусторонее.
В бюро дома на стенах развешены рога косуль. Несколько десятков. Теперь, когда я на них смотрел, они обрастали плотью, и в глазах их стояли слёзы. В громадной морозилке всегда мясо дичи. Граф охотник, неужели его в этом упрекнёшь. Всё делается легально, по закону. А кто их пишет?
Несколько лет назад, когда перекрыли доступ воды к пруду из мелководной речки Хамель, чтобы его очистить, в оставшихся лужах задыхались, отчаянно пытаясь куда-то выплеснуться, карпы. Никому они не были нужны. Никто их не спасал. Смерть выплясывала свой танец.
В доме старинные картины, портреты важных персон. Их давно нет на свете, но они глядят в комнаты и на меня. Укоризненно. Их взгляды просверливают. Никогда раньше они так не смотрели. Что-то сделано неправильно. Нечто им известно, чего я не знаю.
Нет, дом здесь ни при чём. Он уютен и светел, а парк залит солнцем. Но ночью открываются невидимые днём проходы в замок, и вельможи, обратившись в тени, покидают картины и уходят в старинное жилище, чтобы помолиться за своё охотничье прошлое.
Это всё замок. Он чем-то недоволен, и он рядом. Он, видимо, недоволен и тем, что в нём поместили умирать стариков. Нет дня, чтобы с душераздирающим свистом не врывались в его двор машины скорой помощи. И у всех этих стариков есть дети, которые их здесь пристроили. Поселили умирать в ускоренном темпе. Сознательно.
Я стал вспоминать: в башне и под крышей висят рукокрылые. Иногда они срывались и, шурша, летали среди завалов старинной рухляди и мебели, не обращая на меня, разумеется, внимания. Паутина, как гигантская паучья сеть, предназначенная не для мух, а для людей, висит на всём тускло освещённом пространстве чердака. В мавзолее, усыпальнице прежних хозяев, выбиты стёкла в некоторых окнах, и оттуда по ночам вылетают на охоту летучие мыши. За кем они охотятся? Ах, они собирают души зверей, убитых человеком и складируют их в мавзолее. Этот лес меня тоже пугает, хотя рядом мирно журчит Хамель, текущая в Хамельн. В город того легендарного крысолова, который уничтожил крыс, но и детей увёл из мести за неуплату денег.
Замок, портреты, рукокрылые – все они упрекают и обвиняют. Они знают о нас больше, чем знаем о себе мы сами. И требуют покаяния. За что и от кого? Покаяния от нас, ныне живущих, или от грядущих поколений? И что со мной произошло? Это наваждение или откровение?
Я не умею молиться, но ночью прошу прощения у крошки енота. И не только за себя. За егеря тоже. И за хуторян, и за всё человечество, которое властно решает, кого можно лишать жизни. Каин убил брата и породил зло. Первородное. Оно тяжелее, чем вкушение запретного яблока. Он запрограмировал нас на убийство. Сначала на малое, а потом и на большое. Мы убиваем наших братьев меньших ради еды и одежды. Ну, якобы защищая также нашу жизнь. И ещё бог знает зачем. Да кто смеет на Земле противостоять людям?
Но, убивая ради еды изначально и в борьбе за еду, мы научились убивать вообще. Люди чувствуют себя безнаказанными господами, и нам это нравится. Убийство стало удовольствием. А в итоге всё бумерангом возвращается обратно: борьба за существование, агрессивность, войны, самоистребление. Потому, наверно, и не приживается учение Иисуса Христа, неважно Бог он или гениальный человек.
Я спрашиваю у человечества: «Что делать?»
Вероятно, избежать зла убийством можно и нужно, охватив всю живую оболочку нашей планеты разумным управлением. Если не придётся убивать ради еды, то люди отучатся убивать вообще. Они научатся не иметь врагов. То есть, говоря по-простому, станут действительно Homo Sapiens. Получится ли? Разум утверждает – это возможно.
Наконец я понял, почему сосны «застыли в печальном и немом вопросе».
*Местоимение «я» не означает биографического содержания рассказа, хотя он и базируется на реальных фактах.
18-21 июля 2019
Дух дышит, где хочет.
Моя авторская библиотека
|
| |
|
|
| ledola | Дата: Среда, 03 Июл 2019, 00:16 | Сообщение # 42 |
 Долгожитель форума
Группа: Модератор форума
Сообщений: 10688
Статус:  | Цитата Phil_von_Tiras (  ) Но, убивая ради еды изначально и в борьбе за еду, мы научились убивать вообще. Люди чувствуют себя безнаказанными господами, и нам это нравится. Убийство стало удовольствием. А в итоге всё бумерангом возвращается обратно: борьба за существование, агрессивность, войны, самоистребление.
Отлично, Феликс. Вам удаётся совместить и философию и просто рассказ о жизненных обстоятельствах. Причем это делается с легкостью. С удовольствием прочла.
А зверь обречённый,
взглянув отрешённо,
на тех, кто во всём виноват,
вдруг прыгнет навстречу,
законам переча...
и этим последним прыжком
покажет - свобода
лесного народа
даётся всегда нелегко.
Долгих Елена
авторская библиотека:
СТИХИ
ПРОЗА
|
| |
|
|
| Phil_von_Tiras | Дата: Четверг, 04 Июл 2019, 17:55 | Сообщение # 43 |
 Житель форума
Группа: Постоянные авторы
Сообщений: 1147
Статус:  | Спасибо, Лена. 
Дух дышит, где хочет.
Моя авторская библиотека
|
| |
|
|
| Phil_von_Tiras | Дата: Среда, 11 Ноя 2020, 16:25 | Сообщение # 44 |
 Житель форума
Группа: Постоянные авторы
Сообщений: 1147
Статус:  | Пробуждение
— Филенька, иди сюда, сынок.
Молодая женщина лет двадцати семи сидела на табурете у общего стола посреди большой прямоугольной и, по сути, пустой комнаты. Кроме стола и нескольких табуреток в ней у стен напротив друг друга были встроены невысоко от пола нары. С правой стороны от входа ночью на них спала она с сыном, свекровь с её приёмной дочерью и её ребенком. А с противоположной стороны спала другая, совсем чужая семья. Никаких перегородок не было.
Малыш с разбегу ткнулся в мамины колени.
— Смотри, я отобрала сегодня для папы нашу фотокарточку.
С чёрно-белой фотографии смотрел, стоя на табуретке и обняв маму рукой, в меру упитанный мальчик. Для военного времени мальчик как мальчик. Правда, довольно крупная голова колыхалась на тонкой шейке. Одна штанина задралась на ноге, другая была спущена, одет он был бедно и в застиранной одежонке. Глаза его с фотографии глядели не по-детски серьёзно и немного виновато.
Мать задумала послать фотокарточку на фронт. Отец не видел своего ребёнка уже два года. Малыш внимательно посмотрел на фото и остался доволен. Он вспомнил детей из детского сада. Таких папа не хотел бы увидеть.
В ателье, что располагалась прямо на улице, ему велели смотреть в глазок какого-то ящика и обещали, что оттуда вылетит птичка. А он знал и был уверен, что никакой птички там нет. Глазок совсем маленький, а птичка побольше. Да будь он птичкой, ни за что не стал бы жить в этом чёрном ящике. Неопределённость вызывала неудовлетворение. Он испытывал чувство неудобства за взрослых. Почему этому дядьке надо его обманывать? И почему с ним согласна мама? Спросить её? Но ведь она спокойна. Нет, нет, мама не согласна с этим дядькой. Наверно, она не слышала.
Об обмане он кое-что уже знал. В детском саду товарищ попросил только на минуточку подержать его порцию хлеба. Она была небольшая, посыпанная сахаром. Когда он это сделал, тот быстро запихал весь кусочек себе в рот. Времена-то были голодные. Это было неожиданно и очень обидно. Тем более, он видел, как ухмыльнулась воспитательница. «Она с этим согласна?» — подумал он тогда.
Теперь он уже кое-что узнал и о коварстве. Одного случая оказалось достаточно, чтобы запомнить на всю жизнь. Но и в грядущей своей жизни он будет всегда перед ним бессилен. А воспитательнице мальчик, видимо, не нравился. Не потому, что он был недисциплинирован, этого не было. И не потому, что он был неряшлив. Как раз наоборот. Но в нём было что-то непривычное, не своё, не родное. Может быть потому, что воспитательница видела в нём то, что не ожидала видеть у ребёнка, а именно: он понимал смысл её действий. Это было в глазах его. Потому и была довольна, что его обманули.
Между тем шла война, тяжёлая отечественная война. И он уже и о ней тоже кое-что знал, испытал и много видел. Знал также, что они оказались в этом захолустном кыргызском городке по причине войны очень далеко от дома и неизвестно, что будет дальше.
Путевые страхи
Когда началась война ему было два с половиной года, но об этом времени он мало что помнил. В памяти всплывал только день рождения, потому что в этот день ему подарили лошадку. Она была на платформе из трёх колёс. Ему велели на неё сесть, он пытался, но не получалось. В доме было много гостей. Видимо, они ждали от него восторгов, но у него не получалось и от этого лошадка стала ему чужой и неприятной. Больше он к ней не подходил.
Семья была большая, жили в своём частном доме, где держали и небольшой магазинчик сдобы, и он помнил ещё бесконечные среди домочадцев тревожные разговоры. В чём состояла тревога он не понимал, впечаталось только постоянно повторяемое страшное слово: Гитлер.
Гитлер почему-то казался ему не человеком, а животным и это не было привычное животное как, скажем, козы, овцы, коровы. Этих он видел. А Гитлера никогда не видел, поэтому он представлялся ему обязательно кроваво-красным, большим и тучным, как корова, но почти круглым, как огромный раздутый шар с маленькой головой. Он всё время приходил и приходил, как вращение испорченной пластинки, ложился на цветы в палисаднике, или на двери погреба, наклонно встроенные снаружи дома. Короче делал что-то очень нехорошее и был почему-то всегда мокрым...
Железнодорожный состав шёл долго с бесконечными остановками. Откуда было ему знать, что уже 22 июня немцы и румыны бомбили Тирасполь. Хоть и поздновато, но последовало распоряжение об эвакуации в начале июля. Эвакуировались спешно, но как-то по раздельности членов большой семьи. Бомбёжек в пути Филя не помнил. Даже вагон, в котором он ехал с мамой, был приличным, пассажирским. Только на одной из станций поезд вдруг резко остановился.
Филя уже различал своих военных. По папиной форме. Но у этих на вокзале форма была другая. Из вагона вдруг спешно исчезли все пассажиры. Возможно по радио было приказано всем выйти. Мама не знала что делать. Она выглянула в окно и охнула. На пероне кто-то что-то проверял. Мальчик почувствовал: беда. В маленьком сердечке захолонуло и ужас разлился по всему телу так, что окаменели ноги. Он не успел заплакать, да и не мог. Филя, правда, уже знал, они с мамой называются «евреи», и это почему-то опасно. Но «это» оказалось настолько непонятным, что его воображение ничего не рисовало. А на пероне бежал, что-то кричал и махал руками чужой военный. Он торопился. Страх был связан с ним, точнее с его униформой. И слово «евреи» сразу материализовалось.
Поезд дёрнулся. Остановился. Вновь дёрнулся и плавно покатил с вокзала. В вагоне, а может быть во всём поезде оставались только двое: мать и прижимавшийся к ней мальчишка. Что потом сделала мама, как выбралась из западни он не помнил. И никогда её об этом не спрашивал. Страх, который теперь поселился в его душе, не был страхом природным, инстинктивным. Это был страх перед людьми. Угроза жизни исходила от людей, чего он до сих пор не знал.
Другой раз испытал и страх, и ужас, когда мама отстала от поезда. Когда тот тронулся, а её, которая на остановке побежала за кипятком, всё не было, соседи в переполненном купе зашептались. Но теперь он уже мог, преждевременно взрослея, оценить ситуацию. Они обсуждали куда и кому его сдать. Он этого не хотел, рванул к двери и... наткнулся на раскрасневшуюся запыхавшуюся маму. Молодая и сильная женщина догнала поезд и её втянули на площадку.
Где-то на каком-то участке пути семья или, точнее женская часть её соединились. Тоже чудо. Потом он вспомнил, не мог не вспомнить эту несчастную лошадь.
Была, наверно, середина августа. Двоюродная сестра, которая была на два года старше, держала за руку его и своего младшего братика. Они свернули на тропинку в стороне от скверика. День в Миллерово выдался очень жарким. Неподалёку трое солдат с расстёгнутыми пугавицами солдатской робы зло работали лопатами. Дети подошли ближе. В глубокой яме, видимо воронке от бомбы, лежала лошадь. Один солдат снял с головы пилотку, оттёр пот, глянул на детей, брякнув:
— Гляди, жидята, – и криво усмехнулся.
Что такое евреи Филя уже знал, а жидята – ещё нет. Однако, приобретаемый опыт подсказывал, что это плохо. Девочка, более догадливая, развернулась, уводя мальчишек.
— А, что? – продолжал в догонку солдат, видимо, старшой. — Может быть... — и он кивнул на яму. Все трое расхохотались.
«Дан приказ: ему на Запад, Ей в другую сторону...» – поётся в прощальной комсомольской песне. К осени уже вся Молдавия и Буковина были окупированы румынскими войсками. Также потеряны Донбасс и Криворожский бассейн. Оставлены Минск, Киев, Харьков, Смоленск, Одесса, Днепропетровск. Враг рвался к Кавказу, продвигаясь в восточном направлении. Эвакуация вела в Сталинград, но в декабре он уже горел. Следовало двигаться дальше. И здесь произошло нечто, что он тоже хорошо запомнил.
Чтобы двигаться дальше, надо было добыть билеты на пароход «Иосиф Сталин». Мест оставалось мало, а желающих много. Филя маялся от духоты, стоя с мамой у огромного стола, по другую сторону которого тётя выдавала билеты. Вдруг мама наклонилась к нему и сказала: «Я подсажу тебя, а ты ползи к этой тёте и попроси два билета».
Учёные люди утверждают, что уже с двух лет у детей развивается совесть. Так это или нет, но малыш почувствовал что-то неладное. Он был поставлен на четвереньки на крышке стола, мама подталкивала его сзади и кричала: «С детьми в первую очередь!» Ему стало страшно и немножко стыдно.
Он увидел себя со стороны в этом нелепом положении и не хотел
говорить: «Тётенька, дайте нам два билета». Но мама подталкивала, требовала, и он подчинился, ощущая фальшь своего действия. Билеты они получили, но маленькая, едва ощутимая первая трещина в душевной связи матери и ребёнка появилась. Он её, правда, не запомнил.
На пароходе их место было на палубе. Еды никакой, только кипяток. Плыли в Астрахань и Филя узнал, что такое бомбёжка. Прибывших в Астрахань насмешкой судьбы поместили в здание кинотеатра «Победа». Условия ужасные, помощи никакой. Начался повальный мор, детская корь. Врачи и медики требовали отдавать детей в больницу. Кто отдавал детей обратно их уже не видел, все поумирали: явная диверсия персонала, ожидавшего спасительных немцев.
Больной корью Филя лежал на руках у матери и хныкал:
— Мамочка, я падаю. А мама продала папино пальто и на вырученные деньги покупала детям молоко. Может быть это и спасло их. А может быть они выжили, потому что родители их в больницу не отдали.
Через пару недель всех эвакуированных отправили в село Пироговка, что в пятистах километров от Астрахани. Была зима, а зимняя одежда, если и была, то распродана. У Фили отморожены ножки. Из еды только рыба и кипяток. Бабушка, мамина мама умерла по дороге. Он видел, как деловито суетились вокруг неё три дочери. Она лежала на очень высокой постели, и всё было обыденно. Здесь страха он не испытывал, потому что не понимал, что такое смерть. До этого отлучился дедушка и исчез навсегда. Теперь у него оставалась только одна бабушка, папина мама. Но следовало двигаться дальше.
Дальше, дальше, дальше. До конечного пункта эвакуации в межгорной долине небольшого кыргызского городка Узген.
В Кыргызстане.
В этом чужом городке, точнее даже ауле у него не было товарищей. Но он не помнит себя скучающим. Что-то он находил, которое удовлетворяло его быть довольным самим собой. Во дворе, где они жили, мальчиков не было. Была лишь Ева, дочка бабушкиной приёмной дочери и две киргизские девочки, дочери хозяйки двора. Он очень их интересовал как мальчик. Они были старше и непременно хотели его лечить. Но в лечение обязательно входила процедура раздевания штанишек. Для того чтобы этого добиться, они угощали его какими-то пирожками, густо начинёнными неприятной на вкус зеленью. Он, во-первых, голоден не был: мама работала, а бабушка неплохо зарабатывала шитьём. Она была профессиональной, как тогда говорили, модисткой. Во-вторых, он уже понимал, зачем они его угощают и чего добиваются. Однако, несмотря на его сопротивление, они стягивали с него штанишки и делали ватные примочки, что-то обсуждая. Ему очень хотелось плакать, особенно потому что они всё это обсуждали, но он не плакал и становился немного взрослее.
В детском саду местные дети его не интересовали, хотя по-русски они понимали. Они почему-то всегда сидели на горшке, когда он поутру приходил из дому. Нянечки с ними возились, ругались и заталкивали обратно прямую кишку, которая у них выпадала. Это происходило в передней, пройдя которую, попадали во вторую игровую комнату. И здесь он многое понимал. Понимал что они нездоровые дети, но он был здоров и как-то стеснялся, что он такой здоровый.
Однажды мама взяла его на работу. Работой оказалась парикмахерская, мама была в ней уборщицей. Время от времени она брала метлу и сметала на полу волосы клиентов. Парикмахерами были суровые кыргызы. Они что-то сказали маме, она кивнула, а дома сказала, что эти дяди не хотят, чтобы она приводила ребёнка. Он не понимал почему и не мог найти в своей голове объяснения. Только почувствовал, что, как и в садике, он чужой.
Он часто чувствовал себя чужим. А когда он вдруг чувствовал себя чужим, то шёл через улицу напротив. Это не было опасно, ему не препятствовали, потому что улица была и не улица, а так себе просёлочная немощёная дорога, по которой протекало два арыка. Арык — это по кыргызски ручей. Первый, который был перед их двором — совсем мелкий, почти без воды. Зато второй... О, второй, параллельный первому и напротив их двора был необыкновенный. На нём стояла мельница. Ручей был здесь широк и глубок. Вода врывалась внутрь мельницы, крутила лопасти колеса и вырывалась с другой стороны усталая, но удовлетворённая. Вот на этот удовлетворённый поток Филя часто любил смотреть и о чём-то думать. Он умел уже долго думать и думал, почему он и сам хочет быть чужим, ещё не зная, потому что был маленьким, что чужим будет всю жизнь.
Между тем у него, наконец, появился товарищ. Скорее всего это был товарищ из детского сада и, должно быть из новеньких. Война продолжалась и время от времени появлялись и в этом захолустном городке новые люди.
Собственно, интересовал его не сам товарищ, а его собственность. Собственностью товарища был ксилофон. Этот детский инструмент малыша околдовал. Мало того, что он издавал звуки, эти звуки можно было извлекать самому. И это были разные звуки. Если бить молоточками по пластинкам, комбинируя, получалась мелодия. Он это делал и замирал. Он мог проделывать это бесконечно и никогда это занятие ему не надоедало. Но оно надоедало взрослым. Они отбирали инструмент.
Чтобы получить к нему доступ ещё раз, надо было прийти в гости.
Семья товарища жила выше, на горке. Было лето. Филя помнит, что шёл туда, принуждая себя. То ли он не умел вписаться в гости, то ли потому что к нему относились равнодушно. Не прогоняли, но и не жаловали. А он упрекал себя в том, что идёт в гости не ради товарища, а ради ксилофона. Малыш давно научился рефлектировать. Было ему четыре годочка от роду.
Письмо
Папа был на фронте, а мама писала ему письма. Тогда конвертов у людей не было и письма складывали в треугольнички. Чтобы попасть на фронт, который, разумеется, не оставался на одном месте, надо было знать адрес полевой почты. Наверно, не мама придумала, а может быть и она, обводить на листке письма пальчики руки растущего ребёнка. Таким образом папа мог следить за ростом своего дитяти. Он как бы бывал рядом со своей семьёй и понимал, чего ради он воюет. Папа тоже писал письма маме, а одновременно и своей маме, потому что обе мамы жили вместе.
Филе было уже пять лет, когда с фронта пришло очень плохое письмо. Оно было не от папы, а от его командира и называлось это письмо «извещение». До этого было другое письмо от папы, где он сообщал, что его повысили в звании, он уже старший лейтенант и будет ещё беспощадней бить врага.
Когда мама прочитала вслух письмо от командира, она закричала так громко, что во двор высыпали все, кто в находился в домах. Мама плакала и кричала. Бабушка тоже плакала, но не кричала. Она плакала тихо, но очень горько. Малыш почувствовал эту разницу и тоже заплакал. Он ещё не совсем понимал, что у него больше нет папы и никогда больше не будет, но испугался за маму. Мама была рядом, а папа очень далеко, и он папу не помнил. Но за маму он испугался не потому что она плакала, стонала и кричала. Она кричала как-то не так. Голос у мамы был очень сильный, и кричала она всё громче. Даже люди с улицы забегали в их двор, чтобы узнать, что случилось. А мама рвала на голове волосы и била себя по лицу. Это было ужасно и продолжалось долго. Потом она останавливалась, вся красная, что-то вполне нормально, почти спокойно говорила бабушке, краем глаза следила за своим мальчиком и вновь начинала громко орать. До изнеможения.
Это был ритуальный плач по-убиенному. Но Филя этого не знал. Ему было очень страшно за маму, но, плача, он пошёл не к ней, а к бабушке. Та обняла внука. Это было всё, что у неё оставалось, и каким-то невероятным чутьём мальчик понимал и это. Он чувствовал и сознавал, что и бабушка отныне ближе ему, чем мама. Что никто никогда не будет его любить больше, чем бабушка. Мама становилась далёкой. Пройдёт время, и она перестанет кричать. У неё появятся другие дети, а бабушка будет плакать. Горько и всегда. Старая маленькая душевная трещина между ним и мамой, которая появилась тогда у раздачи билетов на пароход «Иосиф Сталин», всплыла в его сознании и стала расширяться. Эта душевная пуповина рвалась. Он прижимался к бабушке, к такой тёплой и мягкой и стеснялся за маму.
В этот день он перестал быть ребёнком.
Дух дышит, где хочет.
Моя авторская библиотека
Сообщение отредактировал Phil_von_Tiras - Понедельник, 16 Ноя 2020, 15:19 |
| |
|
|
| Phil_von_Tiras | Дата: Четверг, 11 Май 2023, 17:48 | Сообщение # 45 |
 Житель форума
Группа: Постоянные авторы
Сообщений: 1147
Статус:  | Юбилей
Художественно-документальная повесть1
И нет у Господа ответа — лишь горсть золы.
Торчат на кладбище Завета одни колы.
Машина притормозила на второй полосе дороги, даже не включив поворотник и перекрыв движение как раз у дома Заарштрассе 8. На первой — плотно стояли припаркованные машины. Правая дверь чуть ли не на ходу открылась, из неё выскочила стройная девушка и устремилась к калитке напротив через дорогу. Прохожий укоризненно покачал головой, но машина тронулась, не простояв и трёх минут, а девушка благополучно перешла дорогу.
Пожилой мужчина, видимо, никуда не спешил. Он остановился и стал рассматривать двор, куда впорхнула девушка. Внутри его красовался старинный серый двухэтажный не очень ухоженный дом. За калиткой по тропинке в тупичке виднелась солидная дверь с плакатиком на ней: «Die Falken» («Соколы»). На мемориальной доске здания значилось, что в нём жил Карл Каутский, выдающийся теоретик немецкой и международной социал-демократии. Прохожий чертыхнулся: «И здесь эти социал-демократы. Ах! — они „соколята“... Независимая организация... Бунтующая молодёжь, вот кто они. Хрен редьки не слаще. Попытались бы баламутить тогда», — на что-то лишь ему понятное мысленно намекнул он.
Социал-демократов и всех социалистов, коммунистов прохожий не любил. Свободные демократы, либералы — это ещё куда ни шло. Ему, хозяину текстильной лавки, они всё же ближе по душе, хотя... Вот Альтернатива для Германии...
Мужчина сладко улыбнулся.
Между тем девушка вышла со двора, прихлопнув калитку, посмотрела влево на дорогу и, снова перебежав её, вошла в подъезд старинного здания с хорошо сохранившимся живописным фасадом. Лифта в доме не было, и она, звонко застучав каблучками по лестнице, поднялась на пятый этаж, остановилась перед дверью квартиры и нажала кнопку звонка. Через полминуты дверь отворилась. За ней стоял юноша.
— О, Лидхен, ты как раз вовремя. Входи, входи.
В Берлине был весенний день 27 марта 2016 года, воскресенье. Заинтригованный внешним видом девушки, лицо которой выдавало семитские черты, прохожий решил просмотреть список жильцов дома, куда влетела эта пташка. Поискав глазами зебру-переход и не найдя его, он огляделся, убедился, что его никто не видит и также в нарушение правил перешёл дорогу.
Облик девушки напомнил хозяину текстильной лавки еврейскую пару, несколько лет назад купившую у него прекрасные гардины и даже, удивительно, не торговавшуюся. Потом он с удовольствием сшил для них замечательное покрывало на двуспальную кровать. Евреев он хорошо узнавал по облику. Мужчина был уже в преклонных годах и воскресил в памяти то мальчишеское время, когда узнавать евреев было государственным долгом. Своим новым клиентам он признался, что с евреями Гитлер поступал, конечно, неправильно. А в остальном... Нда... Времена...
Интерес к дому у него пропал, и он, старчески сгорбившись, поплёлся восвояси. Надо же так испортить самому себе настроение!
Глава 1.
В семье Конов проблемы
Симон Кон, закутавшись в плед и приоткрыв окно, сидит в застеклённой лоджии пятого этажа четырёхкомнатной квартиры в доме на Заарштрассе 8. Хочется свежего воздуха после болезни. Обычно грипп он переносил легко, но на этот раз провалялся в постели три дня. Март выдался умеренным, но не по утрам. Второго и третьего была ещё сильная облачность со снегом, ночью температура ниже нуля, хотя днём доходило и до 8 градусов тепла. Зато во вторую неделю ночью упорно держались минусовые температуры, а снег лежал и не таял. С четвёртой недели потеплело, а на завтра обещают до 19 градусов тепла. Правда, с дождём. Оттого, видимо, всё ещё нездоровится.
Кону шестьдесят семь лет, но он мужчина крепкий, привлекательный, с гривой черных волос, высок, в меру упитан и без висящего живота. И хотя он всегда нравился женщинам, жениться было ему недосуг. Сначала ждал, пока станет крепко на ноги, а потом махнул рукой. Особой склонности к женщинам у него не было, хотя при случае возможности не упускал. Так уж сложилось.
Он смотрит на высохшее дерево, которое никак не решаются спилить, и думает о том, что, в сущности, не знает эту страну изнутри. Шёл тысяча девятьсот тридцать пятый год. Берлин, четверг, 21 марта. Со своими двумя сёстрами он живёт здесь уже 3 года. С соседями на нижних этажах близко так и не сошлись. Так себе «здрасти» и «до свиданья». Только с Хельгой Краузе с момента его поселения в доме сложились хорошие соседские отношения. Их квартиры на одной площадке. Хельга — одногодка младшей сестры Кона Августы, и по характеру они близки. Обе аккуратные хозяйки. Обе подвижные, несмотря на полноту. Обе любят делиться секретами. Когда Симону стало известно, что у женщины, которая жила с сыном, случаются материальные перебои, то предложил им деньги в долг без твёрдого времени отдачи. Тут же Августа стала делиться с соседкой тайнами еврейской кухни. Хельга воспринимала это с большим интересом. А сын Бернхард... А ему бы вкусно поесть! Так и пошло. Семейные праздники вместе, религиозные, хоть христианские, хоть иудейские — тоже вместе. Правду сказать, обе семьи были не очень набожны.
Симон Кон сидит в лоджии и думает о том, что мир меняется к худшему. Ему, конечно, не привыкать как в Польше, так и в Германии к плохому отношению местного населения к евреям. Но в его личной судьбе много лет главным вопросом было — как жить, как выжить.
В родном городе, в Гнезно, перспектив почти не было. Собственно, они, семья Конов, появились в Гнезно, в еврейском квартале после пожара 1819 года. Тот пожар уничтожил добрую половину деревянных построек города. В то время их соплеменники уехали из-за страха мести евреям как якобы виновников пожара. Однако свято место пусто не бывает, и взамен покинувших город стали прибывать евреи из других мест. Освободился частично рынок труда и сбыта.
Как рассказывал отец, когда город вернули в состав Пруссии, дед Симона Мендель приехал сюда с намерением открыть пошивочную мастерскую. Со временем в мастерской стали изготавливать одежду и на массовую продажу. Так возник магазин готового платья.
Обживались неплохо. Отец вспоминал, как дед радовался открытию новой синагоги. На её освящение в 1846 году он взял и его, шестилетнего мальчугана. Была зима, и ребёнку было страшновато при таком большом скоплении галдевших людей. Но когда, облачённый в талес, богослужение начал не кто-нибудь, а рабби Гебхард, воцарилась благоговейная тишина. Да, это было благодатное время. У евреев были свои улицы, союзы и братства, мастерские, школа. Была даже смешанная христианско-еврейская гильдия портных. Гнезно — город трёх культур: вместе жили и трудились поляки, евреи, немцы.
Сейчас ему, Симону, грустно вспоминать свою Хорнштрассе, на которой располагалась их квартира. Если смотреть с её балкона направо вдоль улицы, то напротив была видна их великолепная трёхэтажная синагога. А далее по улице в конце её за Торунскими воротами озеро Йелонек, где он мальчишкой ловил в норах раков. Это он у польских ребят научился ловить их рукой. Шевеля пальцами, запустишь руку в воду и ждёшь, когда рак ухватится клешнёй. Больно, конечно, но терпимо. Потом все вместе варили их и ели. Мать ругалась, когда он приносил ей гостинец: «Тьфу, убери эту гадость. Это трефное!»
За углом синагоги была школа, которую он посещал. «Учись, Шимелэ, учи Тору. Тора научит тебя жить, а ты научишь других, — говорила ему мать Иоганна, — у евреев нет безграмотных людей. Торговать ещё успеешь». Симон хорошо помнил это время. И деда своего хорошо помнил, хоть тот рано умер. И бабушку свою, очень добрую к нему, хорошо помнил и любил. Звали её Эстер-Юдифь. Довольно редкое двойное имя даже у евреев.
А что потом? Потом он перед Первой мировой войной похоронил родителей на еврейском кладбище и стал хозяином магазина. Сёстры помогали.
В 20-е годы дела пошли плохо. Даже у богатеев Роговских. Город снова стал польским, но национальная независимость поляков не принесла экономического расцвета. Евреи стали искать путей в Америку. Смельчаки направились в Палестину. Община захирела настолько, что порой трудно было собрать в синагоге и миньян2. Но и это было не главным. Становилось ясно, что польское государство активно поддерживает польских коммерсантов и их кооперативы. Налоги душили и разоряли еврейских торговцев и ремесленников. Что в городе, что в сельской местности осуществлялся настоящий бойкот. Даже в Гнезно стал проявляться откровенный антисемитизм. И воскресала классическая проблема: надо искать другое место...
— Шимэн, хватит мёрзнуть, заходи, — услышал он звонкий голос Августы. Сёстры произносили его имя по-еврейски.
— Мы с Йетткой уже за столо-о-м, — пропела она.
Своих сестёр Симон любил, а младшая, Августа, заботилась о нём как мать. Так и не расставались с самого детства и жили вместе. С Августой они вместе и работали.
— Ох-ох... — покряхтев больше для виду, — да иду я, Густи. Иду. Что там у вас на завтрак?
— Овсяная каша и гренки с кофе. Не настоящим, конечно.
Симон оглядел стол, на котором сиротливо смотрелся сервированный сёстрами скромный завтрак. Стол был большой овальный, с искусно гнутыми ножками, с коричневой лакированной поверхностью. Он любил хорошую мебель и никогда не жалел на неё денег.
— Почему конечно? — спросил он.
— Закончился, Шимэн. Ты обещал съездить к Ури. В этом гастрономе сейчас есть всё.
— И деньги тоже? — больше для виду проворчал он. И серьёзней: — Вы не забыли первое апреля 33-го года? Старые клиенты нас пока посещают. Берлин не провинция. Но в магазине народу поубавилось значительно. Скорее всего, боятся. Надеюсь, именно боятся. У меня, правда, есть идея, как обойти бойкот.
— Ты имеешь в виду Бернда? — Августа припомнила старый разговор. — Не рискованно?
— Да, Густи. Другого выхода я не вижу...
После завтрака, как обычно, обсуждение новостей и предстоящих дел. Йеттка серьёзно больна. Вся высохла. Она сильно сдала после смерти мужа, и они с Августой решили: берём её к себе. Здесь во Фриденау было куда спокойней и уютней, чем в её старой квартире.
Карл Вельс, муж Йеттки, снимал жильё на Нолендорфштрассе, но там в квартирах слишком большие, плохо отапливаемые комнаты, а у них ещё и с общей проходной гостиной. Муж был представителем картонажной фабрики, вечно по служебным командировкам, а ей-то теперь зачем там оставаться, да и чем платить? Была ещё одна проблема, побуждавшая оставить это место. Весь этот район, включая Мотцштрассе до Бюловштрассе, был все двадцатые годы и до начала тридцатых местом проживания и досуга геев и лесбиянок с их знаменитыми клубами «Эльдорадо» и «Деде». Йеттку гомосексуалы не интересовали и ей не мешали, но с прошлого года сюда часто стало наведываться гестапо, составляли какие-то списки, и оставаться здесь стало опасно.
— У меня сегодня деловое свидание, сёстры, — вдруг неожиданно начал Симон, доставая сигарету.
— Деловое? — удивилась Йеттка. — Дела у тебя обычно затягиваются надолго, а ты собирался наведаться в Шаумбург. Кстати, как ты собираешься туда добираться?
— Я помню, Йетти. Я не забыл то, что ты имеешь в виду. Как ты могла подумать, что я забыл? Знаешь, к этому доктору не так просто попасть на приём, он знаменитость, — продолжал Симон, игнорируя вопрос о транспорте. — Я должен прощупать почву, там происходит нечто непонятное. Свяжусь сперва с друзьями. Так или иначе я должен отправить Лионам очередную партию товара. Сейчас это лучше всего делать лично. Но есть и другие проблемы. Для этого и встречаюсь с соседом.
— Поспеешь к обеду? — включилась Августа.
— Если не побьют по дороге.
— Шимэн, прекрати эти кровавые шутки, — почти хором запричитали сёстры.
— Какие шутки, — возразил серьёзно Симон, — вчера до смерти забили на Бюловштрассе коммуниста.
— Ах, перестань! — откликнулась Йеттка, — при чём тут коммунист? Сводят личные счёты кому не лень. Такое время.
Как женщина она инстинктивно уводила свою мысль от опасности в привычное и относительно спокойное старое время.
— Да-да, — не стал уточнять Симон.
Соседом, с которым намеревался встретиться Кон, был Герман Буххольц, самостоятельный предприниматель, с прошлого года поселившийся на Рингштрассе 15, а это почти напротив. Герман, небольшого роста полный и подвижный, был на год младше, и познакомились они благодаря польскому языку полгода тому назад. Родился Буххольц в городе Шрода Великопольского воеводства. Собственно польским он стал снова в 1919 году после Первой мировой войны, а до того назывался Нойштадтом. Так что два языка — серьёзное основание для знакомства, шутили они.
Герман поддерживал активные коммерческие связи с Польшей, впрочем, как и Симон. Вместе вспоминали, вместе горевали. В Шроде, рассказывал Буххольц, евреев осталось с полсотни, в то время как во время их детства было более двухсотпятидесяти. Была и синагога, была школа, было и своё кладбище. Всё как положено общине. Но пришлось перебираться в Берлин, где, к своему счастью, он встретил Рики Ярачевер. Рики серьёзно болела, но успела родить ему, сорокалетнему, сына, которому дали немецкое имя Ганс. Собственно, положение Ганса в деле Буххольца и заинтересовало Кона, и об этом должен был состояться разговор.
Кон знал, что причиной переселения Буххольца на Рингштрассе была смерть жены в 1933 году из-за болезни. Обоим, Герману и сыну, оставаться в районе Кройцберг стало невыносимо, несмотря на то, что магазин дамской одежды «Буххольц блузы» ещё оставался там на Винерштрассе 63. С сыном они присмотрели помещение на Райнштрассе 55, улице богатой, оживлённой и с трамвайным движением. Очень удобно для клиентов. В память о жене и с целью обучения сына Герман собирался через год открыть здесь магазин. Гансу, которому уже исполнилось девятнадцать лет, отводилась роль, как думал Кон, командитного партнёра. Собственно, какая роль отводится в деле командитному партнёру Кона очень заинтересовало.
Для начала договорились встретиться у вокзала на станции «Цоологишер гартен», места весьма многолюдного, и потом заглянуть в одно из здешних многочисленных кафе. Кон должен был на вокзале подождать Буххольца, встречавшего поезд из Шарлоттенбурга.
К этому времени уже существовал Большой Берлин, и район Фриденау, часть независимого района Шёнеберг, входил в его состав. Имелась достаточно развитая сеть метро, наземных скоростных поездов и трамваев. Кон выбирал для поездок метро, где не было нужды в присутствии полицейских регулировщиков из службы охраны порядка, и в тесных вагонах меньше вероятности нарваться на штурмовиков. Без двадцати минут двенадцать он стоял под часами у вокзальной эстакады.
С учётом времени прихода поезда и передвижения пассажиров по вокзалу Германа следовало ожидать к двенадцати, и у Кона в распоряжении было около двадцати минут. Стоять столько времени под часами было бессмысленно. «Увы, время любовных свиданий для меня миновало, — думал он и ухмыльнулся. — Зачем стоять под часами. Чего доброго привяжется проститутка. Не до этого сейчас».
Бывало задумывался он и о том, что не создал семьи, не родил наследника. Но роди ребёнка, что бы его ожидало? Дела идут всё хуже. Инстинкт самосохранения формировал соответствующие чувства, игнорируя доводы рассудка. Кон пытался отогнать страхи, пытался заменить их в сознании продуманной целью деятельности, сделав её смыслом жизни.
Он вошёл в здание вокзала и купил в киоске газету.
Наконец минут через пять появился и Буххольц. Поезд пришёл без опоздания, Герман встретил нужного человека и быстро решил свои вопросы.
— Так хотелось бы пригласить тебя вновь побывать в «Романтическом кафе», — извинился Кон, — но ты же знаешь, там сейчас господа гестаповцы.
— Ладно уж, сейчас не до культурных разговоров, — ответил Буххольц. — Поищем вокруг. Кондитерская Кемплера, наверно, еще не закрыта.
И они направились к кондитерской.
1 Документальные факты повести имеют своим источником следующие материалы: Judenverfolgung und jüdisches Leben unter Bedingungen der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Band 1. Tondokumente und Rundfunksendungen 1930 – 1946. Zusammengestellt und bearbeitet von Walter Roller unter Mitwirkung von Susanne Höschel.
Band 2/2. Tondokumente und Rundfunksendungen 1947 – 1990. Verlag für Berlin-Brandenburg. Potsdam.
Die Schaumburger Friede. Ein Projekt der Schaumburger Landschaft in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Schaumburg. Bückeburg. Dezember 2010.
Jüdisches Leben in der Provinz. Schicksale jüdischer Familien in Schaumburg seit 1560, erzählt und dokumentiert. Rolf-Bernd de Groot. Mit einem Dokumentanteil über den jüdischen Friedhof in Obernkirchen von Günter Schlusche Familienblätter, Interviews: Siegfried Bönsch. Ellert & Richter Verlag.
Sozialistische Jugend ‒ die Falken ‒ Landesverband Berlin и журнал „Aj ‒ die andere Jugend“.
Stolpersteinprojekten und Initiativen „Stolpersteine“ verschiedenen Städten.
Центральная база данных имен жертв Холокоста Yad Vashem.
2 Миньян — кворум из десяти взрослых мужчин, необходимый для общественного богослужения в синагоге и для ряда религиозных церемоний.
Дух дышит, где хочет.
Моя авторская библиотека
Сообщение отредактировал Phil_von_Tiras - Среда, 28 Июн 2023, 17:51 |
| |
|
|
| Phil_von_Tiras | Дата: Четверг, 18 Май 2023, 13:46 | Сообщение # 46 |
 Житель форума
Группа: Постоянные авторы
Сообщений: 1147
Статус:  | Глава 2.
Берндхард отправляется в имение
Хельга Краузе — дочь социал-демократа, депутата административного округа Шёнеберг. Её отец мирно скончался в середине золотых двадцатых. Он успел ещё перебраться из посёлка Линденхоф во Фриденау, но был уже слишком истощён, чтобы жить дальше и наслаждаться прекрасной шестикомнатной квартирой на Заарштрассе 8. Политические интересы отца и особенно его дела мало интересовали Хельгу хотя бы потому, что муж её, Людвиг, потомственный дворянин, традиционно был консерватором.
О дворянской генеалогической ветви Краузе говорили в семье не очень охотно, потому что и времена изменились, и ветвь их сильно обеднела. Собственно линии рода Краузе далеко разошлись на Запад и Восток. Правда, Людвиг Краузе охотно вспоминал своего далёкого предка, который присутствовал в свите курфюрстины Софии-Шарлотты, жены курфюрста Фридриха III Бранденбургского, при её встрече с русским царём Петром Великим, проезжавшим теми краями. От этого предка шла линия и в Восточную Пруссию. Это была потомственная офицерская линия. Одним из представителей её был Эрнст фон Краузе из Кёнигсберга. Пути Людвига и Эрнста пересеклись во время Первой мировой войны. Людвиг погиб в её начале, а Эрнст сообщил Хельге подробности гибели родственника, когда после тяжёлого ранения был переведён в Берлин и находился там в 14-15-х годах. Он ещё дал о себе знать после служебного возвращения в Берлин из оккупированной Бельгии, но в 20-м году, выйдя в отставку, исчез.
Хельга мало его вспоминала. До 1923 года она продолжала жить в доставшемся ей в наследство небольшом имении мужа, недалеко от Коппенбрюгге. Здесь же крепким деревенским парнем рос сын Берндхард. После смерти отца перебралась с сыном в Берлин.
В то самое время, когда Симон сообщил сёстрам, что имеет определённые виды партнёрства на Бернда Краузе, сын и мать сидели в гостиной и обсуждали текущие дела.
— Нет, мать, этого делать не надо. Давай подождём ещё немного, — возражал Бернд с молодым задором.
— Это прекрасная квартира, и память твоего деда дорога, но содержать её становится всё трудней, хотя ты знаешь, что отец твой любил комфорт и меня приучил. Может быть, всё-таки вернёмся в имение? — просительно пыталась убедить Хельга.
— Но хозяйство сдано в наём. Арендатора куда денем?
— Собственная потребность! Закон на нашей стороне, — неуверенно возражала Хельга, не глядя в глаза сыну...
— И ты их выставишь? Именно сейчас? Как бы твой отец отнёсся к этой акц... Тьфу ты, уже и понятия их в голову лезут!
— Берни, ты же знаешь, я вовсе не против евреев. Но Соломон собирается покинуть Германию, у него визы в Новую Зеландию на всю семью. Он об этом сообщил. Или вновь сдавать, или вернуться. Берлин мне опостылел. Эти бесконечные крикливые марши, митинги... Хорошего не жди. Я отчего-то боюсь.
— Мама, я собираюсь... — Бернхард замялся. У Хельги, которая была в курсе амурных дел сына, губы невольно растянулись в улыбку.
— Неужели? Ты решился? 33 года! Возраст Христа.
— Нет, мама. Ещё немного подождём. Я должен прочно стать на ноги. Правда, и Штеффи торопит. Ей двадцать пять, и она очень хочет детей. Она была единственным ребёнком у родителей, а рядом с ними жила многодетная семья. Ей всегда было завидно видеть, как братья и сёстры заботятся друг о друге, как вместе играют, защищают друг дружку, — Бернд помолчал, призадумавшись. — Сама ещё ребёнок со своими капризами. Что-то тревожит меня изнутри, да и время такое.
— Она права, ей что же, в тридцать рожать? Женщины рожали во все времена, не ожидая особых обстоятельств. Внуков принесёшь — останемся в Берлине. Им будет город нужен, — улыбается Хельга. — Я уже не молода, хочу внуков. — И уже серьёзней:
— Теперь соберись, вывери дела и время и отправляйся к Витцману. С землёй и домом надо решать.
Штефани Нольте, по-домашнему Штеффи была, по сути, крестьянской девушкой. Она выросла в селе Флегесен в девяти километрах от города Хамельна. Там, в городе с ней и познакомился Бернд, поскольку из всех окрестных деревень и хуторов сельчане съезжались к рыночным дням для закупок в город. Свежий воздух и посильный труд в домашнем хозяйстве превратили её уже к шестнадцати годам в зрелую женщину. Как говорится, кровь с молоком. Кровь формировала её плоть: пышные формы, чувственные губы, правильные черты лица, а молоко — взывало к материнской природе, её упругие груди ждали и готовы были принять ребёнка. Она была настоящей красавицей.
В Хамельне Бернд заговорил с ней, не удержался, предложил подвести во Флегесен. В его глазах она, в отличие от знакомых ему женщин, выглядела особенно соблазнительно. У неё же такой могучий парень подозрения на пустой флирт не вызывал. Она села в машину, а у дома должна была проявить гостеприимство. Пригласила войти. Парень не отказался. Познакомила с отцом. Прошли во внутренний двор и сад, сели за стол. Так и пошло знакомство. Через пару лет отца по службе перевели в Берлин. Они сняли квартиру в односемейном доме в тихом районе Лихтерфельде на улице номер 63, переименованной в 1930 году в Лермоозер-вег в честь одноименного тирольского города. Берлин открыл Штеффи все соблазны большого города. Она влюбилась в него, стала настоящей горожанкой, а её внешность открывала все двери. Это очень льстило, но надёжную опору она видела только в Бернде и ждала его...
Через пару дней, в субботу, ближе к вечеру Бернхард уже двигался на подержанном Бугатти по направлению к Хамельну по федеральной дороге номер один. Сколько же раз ездил он по этой дороге! Его захлестнули воспоминания. Он, конечно, барин, но физического труда, и в частности, крестьянского никогда не чуждался. «Бэрхен», медвежонок, так звал его отец. В самом деле, парень косая сажень в плечах, с мышцами атлета, почти двухметровая греческая скульптура. Штеффи это почему-то не очень восхищало, но его добрые голубые глаза всё-таки её покорили. «А ведь красавица. Это все признают, а не потому, что мне, влюблённому, так кажется», — размышлял он по дороге.
Через четыре часа езды, Бернду, миновавшему Хильдесхайм, открылись родные места. Невольно затрепетало сердце, когда он въехал в Лауэнштайн. Отсюда до имения «Вилла Краузе» хоть пешком прямо через лес. Само имение устроилось со своими семьсот пятьюдесятью моргенами3 между Лауэнштайном и Залцьхеммендорфом с восточной стороны и горной грядой Ит прямо под каменоломней Крюллбринк с западной. Здесь им были излазаны все пещеры, взяты самые крутые подъёмы. Тут росли орхидеи прямо в долинах и на открытых скалах. На склонах зеленели прекрасные буковые леса. С высоких точек открывался фантастический вид на полукруговую гряду Зюнтель от Бад-Мюндера до Хамельна. А между ними поля, поля, поля... И чего бы здесь не жить? Если бы не...
Но ответить на этот вопрос Бернхард не мог. Сама их вилла из семи комнат, две из которых были мансардными, и нескольких подсобных помещений располагалась в восточной стороне усадьбы, примыкая к лесу. За домом был и небольшой сад. Правда, дом давно не ремонтировался. Но комнаты были убраны, и он, уставший от вождения по всё ещё заснеженной дороге и с нанизанными на ней, как ожерелье, деревнями, отмахнувшись от выбежавшего навстречу Витцмана, бросился в постель в комнате, что в мансарде, которая по договорённости сохранялась нетронутой для визитов Краузе.
На следующее утро завтракали все вместе. Жена Соломона Берта, энергичная и с виду властная женщина, готовила по такому случаю без прислуги, сама. Помогала пятнадцатилетняя черноокая дочь Анни.
Соломон чувствовал себя смущённым и был как-то не в себе. Он не совсем понимал цели визита, так как сроки выплат за аренду были определены договором, и он их, за редким исключением, выполнял. В конце завтрака предложил господину Краузе пройтись по некоторым участкам. Бернхард согласился и, поблагодарив хозяйку, они вышли.
— Я, когда был ещё вашим управляющим, разделил пахотные земли на семь участков. Основной клин у нас, конечно, зерновой, но с учётом севооборота традиционно выращивается и картофель, и свёкла, и овощи. А из зерновых на отдалённом поле мы на слабой почве экспериментально выращиваем тритикале.
— Это что такое? — удивился Бернхард.
— Удивительное растение. В принципе гибрид пшеницы и ржи, но невероятной выживаемости. Мы высеваем этот злак перед ячменём и рожью, так как на ржи концентрируем максимальные трудовые усилия. Знаете, от яровой ржи я отказался полностью. Лишь в крайнем случае, но морозы у нас не канадские, так что урожай ржи не страдает.
— Кстати, Соломон, откуда у вас такие познания, да и крестьянские умения? Насколько я знаю евреев, — Краузе несколько смешался, но продолжил, — евреи больше по торговле, по финансовым делам.
Витцман внимательно глянул на Краузе.
— Нет-нет, я не против, — забеспокоился Краузе, заметив этот взгляд. — Без торговли хиреют хозяйства, и благополучие страны во многим обязано евреям. Торговое дело мне и самому нравится.
— Да вот знаете ли, господин Краузе, бывает же такое! Люблю деревню. Мой дед, родом из Тюрингии, был кузнецом, а отец шорником. Вот и привыкли к сельской местности. А я, скорее, вернулся к ней. Но если конкретней, я обучался сельскому хозяйству в Лобиттене, это...
— Да-да, я знаю! — непроизвольно перебил Краузе. — Это в Восточной Пруссии. Родина нашего родственника по отцовской линии.
— Так вот. Это совсем маленькое село с населением не более ста пятидесяти человек, но с хорошей школой. Люди преимущественно протестантского вероисповедания. Синагоги там, конечно, не было, — пошутил Витцман. — Затем я продолжил практику в Израильской садоводческой школе в Алеме, фактически пригороде Ганновера.
— Я слышал о ней. Её основал банкир Александр Симон. Символично: деньги и сельское хозяйство.
— Я учился там до 1933 года, — осторожно заметил Соломон.
— Понимаю, — Краузе многозначительно посмотрел на собеседника. — Вы не думайте...
— Наш сосед из Зальцхеммендорфа, — почему-то понизив голос, доверительно продолжил Витцман, — Мориц Хайлброн. Острая сердечная недостаточность. А ведь семья всегда умела ладить с властями. Ах, какие люди! Ещё в 22-м году отец Карл купил земельный участок в две тысячи квадратных метров и построил там величественный жилой и коммерческий корпус. Он способствовал процессу индустриализации городка и обеспечил значительную часть населения работой на небольшой фабрике по производству промышленных товаров. Сами же их и реализовывали. Они, — Витцман кивнул в неопределённую сторону, — уничтожили его дело. Бойкотом. Причём это были не наши люди. Привозили из Коппенбрюгге. Чего бы согражданам терять хорошую работу или эти же товары искать на стороне? Как вам это нравится?
— Мне это совсем не нравится, Соломон. Маме тоже. Мы не считаем еврейский капитал грабительским.
— Вот потому, что господин Гитлер думает иначе, приходится покинуть родину. Вы ведь это хотели от меня узнать?
Берндхард доверительно положил руку на плечо Витцмана.
— Признаюсь вам, господин Краузе, — продолжал Витцман, — мы ведь прежде всего немцы, а потом евреи. Евреи мы по вере. Я могу быть иудеем и в Новой Зеландии. И семья Роберта Давидзона, владельца современной скотобойни, тоже как будто готовится уехать в Аргентину. Но Аргентине нужны специалисты сельского хозяйства, потому Роберт и отправил сына Эриха на обучение в лагерь хачшара4 в Силезии на три месяца. Я туда не пошёл, потому что в Палестину не желаю и обманывать никого не хочу.
— В Палестину готовят сионистские организации, насколько мне известно, — не то спросил, не то утвердительно сказал Краузе.
— Этих лагерей хачшара очень много по Германии, но они почти все сионистские. В садоводческом центре Алем тоже готовили специалистов для Палестины, но гораздо раньше, и переселение в неё предполагалось добровольным для энтузиастов, так как школа не была сионистской. Я ведь закончил её в 13-м году и тут же был нанят вашим отцом на работу управляющим, а в 23-м, когда вы уехали в Берлин, взял хозяйство в аренду. Уже накопился у меня значительный опыт, и я прижился здесь хорошо. Моя жена и дочь не страдают от жизни в деревне. Я в Новой Зеландии собираюсь купить ферму и заниматься сельским хозяйством. Это мне по душе.
В разговоре они подошли к участку, засеянному озимой рожью.
— Я вижу, злак стоит стеной, — восхитился Бернхард, — сколько вы рассчитываете собрать с гектара?
— Стебель у меня достигает двух метров. Видите, посев розовеет, — показал рукой Витцман. — Это хороший признак, но говорить ещё рано. Очень важно начало сева. Традиционно озимые высевают во второй половине октября. Здесь важно, чтобы не рано и не поздно.
— Когда же вы это делаете?
— Рожь, овёс, пшеница, ячмень. Здесь тоже ведь свой порядок.
— Ну всё же?
— Видите ли, господин Краузе, — ухмыльнулся Витцман, — местные крестьяне меня не волнуют, не конкуренты. Они работают только на себя, а рабочих я нанимаю издалека. Всё-таки это коммерция и моё зерно лучше, здоровее, доставляется на рынок раньше, а потому и дороже.
— Да полно вам, Соломон! Ваши коммерческие секреты я не собираюсь сообщать конкурентам. А если дороже, то и нам выгода!
— Да, конечно. Это и в ваших интересах. Смотрите, если я высеваю рожь в начале октября, то получаю самые высокие результаты сбора и обмолота. Но это только если наши серозёмы насыщенны. Поэтому на песчаной почве я высеваю на неделю-полторы раньше. Важна и плотность высева, разумеется, и среднегодовое количество осадков. Таким образом удаётся собрать с каждого гектара шестьдесят центнеров, причём мы начинаем с конца июля и в непрерывном темпе завершаем со всеми зерновыми и участками в первой декаде августа. То есть преимущественно без помех осадков.
— Я так понимаю, соответственно вы работаете с пшеницей, ячменём и овсом.
— Разумеется. Но есть ещё и промышленный картофель, свёкла. Эти могут ждать. Остальное выращиваем для себя и для скота.
— Ведь этого не было в те тяжёлые годы?
— Да, в книгах не прочитаешь. Всё даётся опытом и экспериментом. Тогда я не мог рисковать, будучи управляющим.
— Что ж, Соломон, вне зависимости от нынешнего политического мракобесия — а я вас понимаю — вы, извините, невольно создаёте проблемы и нам. С вами было так надёжно!
Краузе задумался. Минуту молчал.
— Мама была склона вернуться, я нет. Но мне ясно, что сами мы без управляющего не справимся. Где найдёшь такого, как вы? Всё равно что покупать кота в мешке. Будем имение продавать, конъюнктура сейчас не как в двадцатых годах, — и, немного подумав, добавил. — Наверно. Сроки отъезда у вас конкретные?
Витцман неопределённо покачал головой.
— Я, собственно, приехал узнать у вас, — спохватился Берндхард, — может быть всё-таки останетесь? Здесь деревня, спокойно. Вряд ли сюда доберутся новые господа. А мы готовы снизить вам и арендную плату.
— Увы, Берни, это соль на рану, — взволновался Витцман. — Разрешите вас так называть! Вы ведь на моих глазах выросли. Я запросил родственника, он живёт в Веллингтоне и очень ждёт нас. Но дело даже не в родственных узах. Я не строю себе никаких политических иллюзий. Знаете ли — такой трезвый крестьянский рассудок. Могу обещать вам, если обстоятельства позволят, постараюсь подобрать и рекомендовать вам управляющего. Связи пока сохранились.
На том и порешили.
В имении Краузе оставался ещё двое суток и, как в калейдоскопе, в его голове всплывали пёстрыми клочьями картины детства и юности без какой-либо внутренней связи, взаимопричинности, единого стержня, подобно тому как не чувствовал он какой-либо генеалогической связи в своём дворянстве, обязательных к исполнению традиций или неукоснительных запретов.
«Тридцать три года моей жизни, — думал он, — и жизни страны. Что за судьба у неё! Такое короткое время для общества, для государства — и столько страданий!»
Отец обожал обоих Вильгельмов и особенно канцлера Бисмарка, которого считал самым выдающимся человеком всей германоязычной зоны, но в политическом смещении в сторону парламентской монархии видел начало катастрофы. «Нет единой немецкой нации, — говорил он, — нам для единства нужен монарх, поэтому конституционная монархия с допустимыми демократическими и парламентскими чертами для нас достаточна». Берндхард вздохнул. Что бы сказал отец, не погибни он в Первой мировой, когда бы дожил до Веймарской республики? Экономическое положение земельной знати становилось просто угрожающим.
Он хорошо помнил будучи уже молодым человеком, как в начале двадцатых, прицениваясь к имению, к ним нередко захаживали земельные спекулянты, которые умело пользовались отчаянием и растерянностью людей. Крестьян они обводили вокруг пальца, размахивая перед их носом пачками ассигнаций. «Да можете оставаться в хозяйстве, — говорили они, — работайте дальше, производите, ни гроша с вас не спросим! Вот вам деньги, накормите детей. Только всего-навсего собственник вашего двора сменится. Были вы, стали мы. Всё остальное по-прежнему». И что же? Скупали деревнями и превращали коренных крестьян в наёмных батраков.
«Витцман обмануть нас не дал, потому и выжили, — сделал он для себя вывод. — Да-да... Теперь, конечно, другая ситуация... И эти коричневые... До добра они нас не доведут».
Так хотелось пройтись по любимым местам! Воображение восстанавливало картины детства: его любимую пещеру в высокой долине Пёттчер, где он прятал свои сокровища; зелёные луга гряды Ит, где деревенские мальчишки-пастушки пасли коров; и удивительный природный комплекс естественного леса Заубринк-Оберберга, который принадлежал общине Зальцхеммендорф и находился совсем близко от их имения. Свои первые детские ощущения он получал здесь.
Берндхард вышел к участку, оставленному с прошлого года под пар. Был ясный тёплый весений день тысяча девятсот тридцать пятого года. Почва, освобождаясь от снега, пахла здоровьем. Она дышала любовью и ждала семени. И он вдыхал насыщенный запахом поля воздух деревни и вдруг подумал: «Почему бы всё-таки не вернуться?» Он знал наверняка, что Штеффи не по душе сельская жизнь, она пресытилась ею с детства, а он так любит свою невесту. «И в самом деле, — развивал он свою мысль, — Штеффи такая красавица! И перед кем будет она красоваться? Перед коровами? И к чему в селе её наряды? Сложен, однако, мир! Что такое их имение, крошечная точка на такой огромной Земле? И кто такой он? Значительно меньшая и преходящая, ну прямо-таки микроскопическая точка».
На следующий день, так и не решив до конца своего основного вопроса бытия, он отправился домой в Берлин со значительной суммой денег — годовой арендной платой за имение и инвентарь, которую добросовестно выплатил наперёд Витцман.
3 Морг (нем. Morgen) — устаревшая единица измерения площади земли, равная приблизительно 0, 71 гектара.
4 Хачшара (ивр. подготовка, обучение, тренинг)
Дух дышит, где хочет.
Моя авторская библиотека
Сообщение отредактировал Phil_von_Tiras - Среда, 28 Июн 2023, 18:10 |
| |
|
|
| Phil_von_Tiras | Дата: Пятница, 02 Июн 2023, 18:48 | Сообщение # 47 |
 Житель форума
Группа: Постоянные авторы
Сообщений: 1147
Статус:  | Глава 3
Лидхен приобретает друзей из юношеской организации «Соколы»
Берлин, март 2016 года.
— Глупая я башка, — сказала Лидхен, переступая порог дома. — Совсем не учла, что сегодня выходной день и к тому же пасхальное воскресенье. И конечно, офис закрыт.
— Зато хорошенькая, — пошутил было Тим Шмидт с намёком, но встретил язвительный взгляд. — Извини, извини, пожалуйста! Кристина говорит, что ты лучший математик школы...
— Получишь от меня сполна! — улыбнулась девушка, тем не менее довольная заигрыванием.
— Я хотел сказать, что головка вообще хорошенькая и...
— Так! Зачем я пришла? — делая недовольный вид, прервала его Лидхен.
— Должны прийти Никлас с Мишель, у них есть текущая информация и, возможно, план. Познакомлю. Обсудим, — серьёзно ответил Тим, плотный крепкого сложения юноша. Он был уже студентом первого курса исторического факультета и чувствовал себя вполне взрослым мужчиной.
Через четверть часа действительно пришёл Никлас Вальтер, студент третьего курса того же факультета, член инициативной группы «Камни преткновения» и его подружка Мишель Кайзер. Никлас, или по-домашнему Ники, парень высокий и тощий, выглядел особенно худым рядом с достававшей ему лишь до плеча толстушкой Мишель. Поскольку день был солнечный и тёплый, а дождь обещали лишь к вечеру, решили сходить в кафе-мороженое и поговорить о планах группы.
— И я с вами, — заявила Кристина, белокурая высокая с серо-голубыми глазами младшая сестра Тима.
По дороге, когда их догнал опоздавший Давид, мать которого работала с Сандрой Шмидт, матерью Тима и Кристины, в промышленном конгломерате Сименс. Никлас передумал и предложил для девушек кофе с пирожными в кондитерской «Тобен» на Шлоссштрассе.
— Там, во-первых, дёшево, а, во-вторых, совсем уж демократично: посещают кто угодно и в чём угодно, — пояснил он.
Туда и направились. Придя, заказали каждому по большому стакану макиато, по куску вишнёвого торта и уселись у стены за длинным столом. Кондитерская была популярна, всегда полна разношёрстного народа, но ребят это и устраивало.
— Так вот, Лидия, — начал степенно Никлас, обращаясь к той, кого Тим и Кристина звали уменьшительно-ласковым именем Лидхен, и предвкушая менторское удовольствие от поучения новичка. — Прежде всего, что такое «камни преткновения»? Немного истории.
Ласковое «Лидхен» Лидия Эрдман получила от Сандры за свою изящную фигурку. Так и пошло среди друзей: Лидхен да Лидхен.
— Ники, — прервал старшего товарища Тим, — Лидхен не знает, что мы активно работаем с Демнигом, вернее, помогаем ему.
— Хорошо. Но сначала надо ей узнать, кто он и что за личность. Думаю, Лидия, что именно вам, он сделал акцент на «именно вам», будет особенно важно знать, что памятные знаки, которые Демниг вмуровывает перед парадными...
— Послушай, Ники, — прервала его Кристина, догадываясь куда он клонит, — об «именно» потом. Расскажи лучше конкретней о Демниге.
— О! Гунтер — великий гуманист. Он художник по образованию, и можно много говорить об этой стороне его жизни, но сейчас о другом. А дело было так. В 1991 году Гунтер Демниг, обычный художник, проложил в Кёльне на тротуаре цветную дорожку-след, чтобы напоминанием отметить факт депортации цыган синти и рома. Когда несколько лет спустя он заменил дорожку латунными табличками, одна пожилая женщина, высоко оценивая проект, выразила сомнение относительно того, что по соседству когда-либо жили цыгане. И тут Гунтеру Демнигу открылось, что многие исторические события уже выпали из сознания его сограждан. Теперь он знал, что хочет начать проект, который освежит память людей путём установки памятных знаков на улицах городов, где когда-то жили жертвы нацизма и где начались преступления. Сперва это была просто идея, и только после того, как первая закладка камней встретила одобрение родственников погибших, он решил расширить проект и его продолжить.
— Я бы тоже одобрила этот проект, — заметила Лидия. Но ведь кроме цыган есть... Она несколько замялась.
— Вот-вот, — подхватил Никлас, — вы хотели сказать Холокост. Я ведь вижу, — он покосился на Кристину, — у вас русые волосы, но глаза... Этот восхитительный разрез ваших восточных глаз...
— Эй ты, уймись! — Мишель толкнула его в бок. — Восхитительный разрез... Поэт!
Она встала, демонстративно надув губы, и пошла к стойке за следующим куском торта. Лидхен с Кристиной переглянулись, сдерживая улыбки.
— Очень любит сладкое, — заметив это, сказал, как бы оправдываясь за подружку, Никлас.
— Вы думаете, что я еврейка? — усмехнулась Лидия после наступившей паузы. Согласно еврейскому религиозному закону да. Моя мама еврейка: Евгения Соломоновна Фишман, родом из Украины. Она хорошая пианистка и даёт сольные концерты. А вообще-то у неё частная музыкальная школа. Но мой папа, Пауль Эрдман, немец. Он инженер. Его родители родом из Тюрингии, но он родился в Бюккебурге. Знаете такой город?
— Разумеется, Лидия, — ответил Никлас, — Нижняя Саксония, округ Шаумбург. Он сдвинул свой стул немного вправо, уступая проход вернувшейся Мишели.
— Гунтер как-то прочитал изречение из Талмуда, — продолжил он, когда Мишель уселась. — В нём говорилось: «Человек забыт лишь тогда, когда забыто его имя». Но это произошло после того, как в 1990 году он разработал проект «Следы воспоминаний» в память о депортации нацистами более тысячи цыган в 1940 году, о чём я уже упоминал.
— Расскажи, Ники, почему Демниг называет своё искусство камнями преткновения, — вмешалась Мишель, втыкая вилочку в торт.
— А вы знаете, он и сам не помнит, когда ему в голову пришло это название, —ответил Никлас. — Может быть, тогда — был такой эпизод, когда один журналист выразил сомнение, наблюдая за работой Гунтера. Журналист сказал, что люди, споткнувшись о камень, могут упасть. И представьте себе не взрослый человек, а мальчик, школьник, который стоял рядом, ответил: «Вы не падаете физически, вы спотыкаетесь головой и сердцем».
— Взрослые... Есть разные... Кроме того у нас хватает и правых экстремистов, которым эта правда будет колоть глаза, — включилась в разговор Кристина. —Впрочем, я понимаю наших обывателей. Им стыдно за прошлое, может быть даже за своё косвенное участие тем, кто постарше...
— Например, молчанием или замалчиванием, — подхватила Мишель, отхлёбывая из стакана. — Тьфу, стыдно. А может быть, совсем и не косвенное участие.
— Вовлечённость в проект Демнига уже само по себе отделяет нынешнее поколение от тех людей, — сказал Давид, высокий юноша с курчавой головой чёрных волос и впалой грудью. — Это, конечно, не всё возможное для водораздела взглядов, но неплохое начало, по крайней мере, для молодёжи.
— Это и есть наша задача! — вдохновился Никлас. — Мы в состоянии противостоять правым. Я не хочу всю жизнь таскать на своём горбу этот позор. Поэтому молчать мы не должны. Чего только не делали втихаря с камнями! Их заливали краской, заклеивали или выкапывали сотни раз. Удивительно, что недопонимание проекта было и у тех, кого это, на мой взгляд, ближе всего касалось. Представьте себе, бывший президент Центрального совета евреев в Германии Шарлотте Кноблох жаловалась, что люди, наступая на камни, затаптывают еврейские жертвы ногами. Но ведь идея в том и состоит, чтобы вернуть жертвам их имена. Показать, что они жили по соседству, и что мы обязаны об этом помнить.
— Вы думаете, — задумчиво сказала Лидия, — что этот позор когда-нибудь будет снят с немцев?
За столом наступила напряжённая тишина. Стихли и насторожились соседи рядом. Кто-то из них недовольно что-то пробурчал. Давид, сверкнув глазами, многозначаще посмотрел на Лидию.
— А что ты думаешь, Лидхен? — удивлённо и с любопытством спросил Тим, делая акцент на слове «ты».
— Я об этом пыталась думать. Мне трудно судить, но папа считает так. Есть гражданское общество и есть государство. Гражданское общество — это все мы, наша общественная деятельность и наша частная жизнь. Не всегда можно выбирать власть. Французы во время своей Великой революции права выбора не имели, тем не менее... Ну а когда уж можно выбирать... Короче, никогда простые люди, а их большинство, не хотят, чтобы власть втянула их в преступления. Но люди могут и ошибиться с выбором. Это беда. Тогда виноваты не они, виновата власть, виноваты и прямые преступники. В истории немецкого государства позорное пятно нацизма останется навсегда! Так долго, сколько будет существовать сама немецкая государственность. Это её история, её судьба. Другое дело гражданское общество, оно в большей или меньшей степени оппонент власти, существует само по себе со своей историей, может поддерживать государство или сопротивляться ему. Поэтому на нас, на новое поколении, позор государства не может переноситься автоматически, если уроки извлечены правильно. Так говорит папа.
— Да твой папа философ! — восхитился Никлас.
— Кстати, — не дав ответить Лидии и заёрзав на стуле, вновь подключился Давид, — с точкой зрения её папы, скажем, человека из народа, перекликается мнение бывшего канцлера Германии Гельмута Коля. Однажды в своей речи он сказал: «Правда в том, что немцы были виновны... Было бы глубокой ложью искать в истории нашего народа только правильные факты. Потому что эта история неделима, и это касается как добра, так и зла».
— Вот-вот. Мой папа обычный, но честный немец, — согласилась Лидия. Он много рассказывал мне об истории евреев в Шаумбурге. Они жили там общинно с самого начала девятнадцатого века.
— Коллега! — обрадовался Никлас.
— Он действительно любит историю. А хотите я расскажу, тоже уже историю, про немного странное для меня событие? Мне было семь лет, когда мы с папой поехали на удивительное театрализованное представление, которое было организовано на всём пространстве района. Это было в последней трети августа.
— Рассказывай, — согласились все хором.
— Наша история неделима, — пошутила Кристина, приобняв подругу, — давай о добром!
— Графство Шаумбург, как и многое в Германии, не всегда было такой же территориальной единицей, как сейчас регион Шаумбург, — начала Лидия. — В результате административного образования земли Нижняя Саксония, это произошо первого августа 1977 года, объединили два района Шаумбург-Липпе с Бюккебургом и Штадтхагеном. Сюда включили Графство Шаумбург и часть округа Шпринге.
Шаумбургцы — народ гордый, и когда графству исполнилось 900 лет, родился проект «Шаумбургский мир». Начали с любимца народной памяти принца Эрнста Гольштайн-Шаумбургского, которого замечательно представлял артист Петер Кемпфе. Снарядили его свитой, охраной с алебардами, и начал «Его Величество» обход «своих земель». А земли эти — красотища, особенно летом и если смотреть на долину с горы замка Шаумбург, резиденции бывших правителей. Но обход «своих владений» и знакомство со «своими верноподданными» принц начал с Штайнхудерского, растянувшегося на много километров сильно заиленного озера, и тут же получил от «верноподданных» горожан требование его фундаментальной очистки. Глубина озера не более полутора метров, посредине его остров с рестораном и развлечениями. «И зачем туристам добираться к нему на лодках и платить за перевозку, когда они вполне могут перейти всё озеро вброд», — шутили горожане.
— Хорошее начало для «Его Величества», демократия вживую, — весело усмехнулся Никлас.
— Говорить со «своими подданными» принц должен был по-современному... через микрофон, которого он, «рыцарь», как незнакомой штуки, немножко испугался. Вы бы видели, как взрослые люди: чиновники и начальники, подобно детям, с удовольствием входили в роль! В Хюльсхагене в связи с восемнадцатилетием со дня основания учебной профессиональной школы подготовили петицию. Позже я, перечитывая эту историю, выучила её наизусть. Забавный и забытый слог. Послушайте: «Чистокровный и Высокородный, добрый Принц и Лорд! Молодежная профессиональная мастерская предлагает покорное служение и просит вашей милости в объявлении её совершеннолетия». По поводу чего «Высокородный» удивился: зачем, мол, молодёжи новые специальности? Разве они не наследуют профессии своих отцов? А в Штадтхагене «Чистокровному» начальник финансового ведомства как новому гражданину присвоил... налоговый номер.
— Уф! — выдохнули все разом. — Это совсем по-нашему, по-немецки.
— Между прочим, Вильгельм Буш родом из этих мест. А «Высокородный» с удовольствием знакомился с современной жизнью, достижениями «своего края», — с некоторой грустью продолжила Лидия, — только наследников не оставил, а, следовательно, и добрых традиций. Я одного не могу понять сейчас: зачем была устроена эта помпезная и дорогостоящая затея?
— Принц Эрнст оставил после себя в Штадтхагене прекрасный мавзолей, фактически музей европейского ранга, — утешил её Никлас. — Последующая история провинции была нелёгкой. Правда, смена правителей обошлась без кровопролития, но была Тридцатилетняя война, эпидемии... Последний из правителей князь Адольф II отказался от престола 15 ноября 1918 года. Кстати, после утраты трона наследники стали частными лицами, но сохранили за собой владение мавзолеем. Я думаю, шаумбургцам очень важна самоидентификация. Потому и устроили этот празник. Печально лишь то, что некоторые члены Дома Шаумбург-Липпе присоединились к НСДАП, среди них принц Фридрих-Кристиан, личный адьютант и референт Геббельса.
— Да, хочу напомнить о подвиге графа Клауса Штауффенберга и его покушении на Гитлера, — вступил в разговор Тим, — но есть письменные источники, которые сообщают, что приблизительно треть из высокородного дворянства охотно служили нацистам. И из князей Шаумбург-Липпе принц Фридрих-Кристиан был не единственным. Гитлер, Геринг, Геббельс и Гиммлер не упускали возможности украсить партию представителями высшей аристократии. История всё помнит.
— Похвально, Тим, — пошутил Никлас. — Неплохо для начинающего историка.
— То есть получается так: возьмём, к примеру, Шаумбург, — попыталась подытожить Лидия. — Простой народ глядит на своих аристократов и думает: раз они находят нацистский режим полезным для себя, почему бы и нам не присоединиться?
— Ну, Лидхен, не так прямолинейно, — возразил Тим. — Хотя социальный эффект в закреплении режима, особенно в начале, безусловно был. Я думаю, что многих из немецкой аристократии вовсе и не назовёшь немцами. Их родственные связи скорее общеевропейские, чем немецкие. Они некая наднациональная элита со своими интересами.
— А это не снимает ответственности с населения, с его поведения и с национального позора; с чего мы, собственно, начинали, — продолжил Никлас.
— То есть вы хотите сказать, что этот позор должно всё-таки разделить и гражданское общество? — спросила Лидия.
— За такие тяжёлые грехи не отмыться в течение веков, — хмуро добавил Давид.
— Сопротивляться тоталитарному режиму не просто, — ответил Никлас. — Вы спросите вашу маму или её родителей, которые, как я понимаю, из бывшего СССР. Противодействовали они сталинскому режиму? В общем, схематически соотношение таково: преступное государство осуществляет свои преступления всеми своими государственными структурами, а гражданское общество нет. В нём всегда есть силы сопротивления. Например, у нас Штауффенберг, или ещё раньше демонстрация немцев на Розенштрассе в защиту своих арестованных еврейских мужей, жён или родственников. Для нас важна степень ответственности, как говорит ваш отец, гражданского общества, чтобы решить нам, нашему поколению, что мы должны делать. Контроль над институтами власти со стороны гражданского общества и возрастание сил сопротивления по мере необходимости.
— Согласна, — сказала Лидия, — в правовом государстве и общество демократическое. Здесь больше контроля потому что больше свобод в гражданском обществе и возможностей объединения по интересам, включая и политическим.
— Именно так. Мы и есть молодёжное политическое объединение. Поэтому у меня как члена инициативной группы к вам, Лидия, предложение. Если вы вхожи в еврейскую общину Берлина, то было бы важно привлечь и еврейскую молодёжь к нашему делу. Тут не в денежных взносах проблема. Нам надо мобилизовать много людей! Латунные части камней тускнеют, а их тысячи, и все необходимо чистить. Важно следить и сообщать нам о фактах вандализма, чтобы своевременно заменять осквернённые и вырванные камни новыми. Наконец, нужно участие в акциях закладывания этих памятников. Мы действуем по принципу человек — камень — судьба, а их, пострадавших, миллионы. И не только в Германии. А вы знаете, что на родине вашей матери, в Украине, тоже заложены «камни преткновения»? Это началось в июле 2009 года в Переяславле-Хмельницком и теперь осуществляется более чем в двух десятках стран.
— Я согласна и попробую создать инициативную группу или привлечь новых членов в вашу. Хотя...
— Отлично! — воскликнул Тим, — будем считать, что у нас народу прибудет. Во всяком случае, Лидхен, ты наша. Согласна?
Улыбаясь, Лидия Эрдман утвердительно кивнула.
— Нам пора, — заключил Никлас.
Ребята собрали посуду, и Мишель отнесла её на прилавок. Они вышли на свежий воздух. Накрапывал обещанный службой прогноза дождик.
Дух дышит, где хочет.
Моя авторская библиотека
Сообщение отредактировал Phil_von_Tiras - Вторник, 20 Июн 2023, 14:09 |
| |
|
|
| Phil_von_Tiras | Дата: Вторник, 13 Июн 2023, 22:33 | Сообщение # 48 |
 Житель форума
Группа: Постоянные авторы
Сообщений: 1147
Статус:  | Глава 4
Кон консультируется с Буххольцем
Берлин, март 1935.
— Слыхал, — Кон махнул в сторону Харденбергштрассе, продолжая разговор о культуре, — готовится премьера нового шедевра Рифеншталь «Триумф власти». Говорят, по заданию самого!
— Ах, Симон, меня больше волнует смерть Александра Моисси. И ведь от простого гриппа умер. Какой был артист! Не могу забыть его Освальда в «Призраках» Ибсена. Ну и Фёдор в «Живом трупе» графа Толстого. Но, видимо, Симон, о былых культурных временах нам придётся позабыть.
— Да-да. Как раз семнадцатого будет умопомрачительный парад на Люстгартен с обходом войск самим Гитлером. Неужели война?
— Пока вроде только олимпиаду готовят, — отмахнулся от предположения Буххольц, — но и за нас тоже берутся. Месяц назад «поймали с поличным» одного еврейского парикмахера. Мол, при клиентах позволил себе неподобающие комментарии о национал-социалистической политике. На год и три месяца засадили. И это ещё милостиво, от новых-то господ...
— Ну так идиот же! А раз парикмахер, так вдвойне. У этих рот не закрывается. Правда, и уши тоже. Но я тебе скажу, что и не еврей получил бы то же самое.
— Не скажи, Симон. Это только пристрелка. Конечно, расправляются пока с политическими. Пять газет уже запрещены! Пусть уж «Берлинский вестник» — издание сатирическое — коричневым не по вкусу; ладно «Правду» закрыли, но чем мешала им «Красочная кинохроника»?
— Зато «Дер Ангрифф» стал процветать.
— Вот именно, Симон. Более антисемитской газетёнки я не знаю! Хозяин —сам доктор Геббельс. Доходит у них до смешного, когда фон Ягов, фюрер берлинско-бранденбургских штурмовиков, запрещает своим молодчикам читать любую другую газету, кроме партийной тогда... когда они в служебной форме.
Симон толкнул приятеля в бок:
— Смотри, легки на помине. Вон, на другой стороне улицы. Давай всё же зайдём сюда!
И они поспешили укрыться в ближайшем кафе, взяли по кружке пива и солёные бублики. Проницательный бармен указал им на свободный столик в дальнем углу. Как обычно в дневное время, посетителей было мало.
— Этот ураган в прошлом месяце у тебя в магазине ничего не повредил? — начал Кон несколько издалека. — В Кройцберге он особенно зло прошёлся.
— Да нет. Витрины я успел закрыть. И цокольный этаж. Крышу не сорвёт. Но ты ведь не это хотел спросить?
— Не это, Герман. Ведь не секрет, что многие из наших уже эмигрируют? Я «Штюрмер» не читаю, но что печатает о евреях Штрайхер, этот подонок с длинным носом, — так это же инквизиция! Мне соседи рассказали. Мы как будто используем для ритуалов кровь арийских детей. Как тебе это нравится? «Еврейские гешефты обманывают покупателей». Вот брешет! Только ли это должно нас беспокоить? В Австрии тысячи евреев уволены. Здесь нам отказано в медицинской страховке. Офицеров увольняют из армии. И каких офицеров! Мне знакомы наши, прозорливые, которые уезжают. Наверно, они думают правильно. Но я тебе скажу, бежать я не могу. В мои шестьдесят семь я ещё ничего себе, и начать на новом месте тоже сумел бы, но сёстры... Йеттка совсем больна. В общем, я попробую переждать. Не вечно же это будет.
— И как?
— Герман, доверительно, только для тебя. У нас арийские соседи, они не национал-социалисты, скажу тебе: они наши надёжные друзья.
— И?
— Я продам магазин сыну соседки, его зовут Бернхард Краузе, или перепишу на него. Представляешь, вывеска «Модная одежда Бернхард Краузе и Ко». Какой тут бойкот? Он чистый ариец. Конечно, сделаем всё фиктивно, с капиталом я ему помогу. Через нотариуса. Деньги не пропадут. А моё участие в деле сделаем как у тебя с сыном, то есть я скрытый вкладчик. И деньги сберегу, и прибыль кой-какая. Вот об этом и хочу с тобой посоветоваться. В юридических вопросах ты посильней меня.
— Для начала, — Буххольц покачал головой, — если обнаружат, болтаться будете оба на одной перекладине. Симон, ты меня извини, но я всё-таки на два года старше тебя, — слукавил он.
— Разве? Пусть так. Ты хочешь сказать, что умнее меня. Хорошо, я согласен.
— Я хочу сказать, что понимаю твоё отчаяние, но готов проиграть сценарий, как говорит твой знакомый кинопродюсер Зигфрид Шёнфельд. Ты ведь в деле с его роднёй из Шаумбурга?
— Не совсем так. Но неважно, я его знаю. Родня с ним не в дружбе, считают его высокомерным. Он ведь женат на христианке, которая привела ему ещё и двух детей. Наши мужики! Если красавица, то и штаны вниз. Считается, что он основал кинокомпанию АМА ФИЛЬМ, но он всего лишь один из управляющих, который отвечает не за художественные, а за коммерческие и арендные задачи компании.
— Ладно, схожу ещё за кружкой пива и продолжим. Тебе взять? — Буххольц, вставая, с трудом распрямил спину.
— Бери-бери, — Кон откинулся на спинку стула, в сердце что-то защемило. «Это всё чёртова погода, — подумал он. — Всё же, когда поеду в Шаумбург, надо будет и о себе поговорить с Вольрадом Марком. Врач-знаменитость! А отец его был ещё более знаменит. Настолько знаменит, что улица в городе названа его именем. Надо бы и Йеттку взять с собой, но как раз сейчас отрывать её от дела невозможно. На ней касса и бухгалтерия».
— Так вот, уважаемый, — Буххольц вернулся с пивом и с разговором. — У меня ведь с Гансом родственные отношения. Сын! Естественно, полное доверие. А ты говоришь: очень порядочные люди. Для тебя, в принципе, возможны два варианта. Я опускаю вопрос, как вы договоритесь о владении магазином.
Итак, первый вариант. Вы создаёте коммандитное торговое предприятие, товарищество на вере. Между прочим, первыми открывателями были, как всегда, мы, евреи, ещё в первом веке... Вас, участников, должно быть как минимум двое. Один из вас генеральный партнёр, который отвечает за все активы, и, кстати, всем своим имуществом. Другой — коммандитист. Он отвечает только за свой взнос, потому у него и ограниченная ответственность. И здесь возникает вопрос: если ты хочешь быть скрытым партнёром, захочет ли твой приятель рисковать всем, идя тебе навстречу в создании такого предприятия по твоему предложению?
— Ну знаешь, If there's no risk, there's no thrill! Если нет риска, нет острых ощущений! — ответил Симон по-английски.
— Допустим. Но это ещё не всё, если не считать такой «мелочи», как твоё полное подчинение генеральному в деловых решениях. То есть ты с твоим магазином уже не хозяин его, а только получатель прибыли по сумме твоего взноса. Можно, конечно, внести в название предприятия и твоё имя, скажем, «Модная одежда Краузе & Кон Ко». Тогда ты тоже генеральный партнёр.
— Нет, без моего имени. Я же этого добиваюсь. Чую, нас в покое не оставят.
— Хорошо, но теперь главное. По закону ваше товарищество должно быть зарегистрировано в торговом реестре и в налоговой инспекции. При этом я опускаю другие пункты, — Буххольц вздохнул. — При постановке на учёт обязательно требуется внести фамилию, имя, дату рождения, место жительства всех партнеров, сумму взноса в товарищество и заверенные у нотариуса подписи всех. Устраивает?
— Scheiße! (Дерьмо!)
— Теперь другой вариант. Вы организуете анонимное товарищество. Вернее, организует твой приятель, а не ты. Такое возможно, и ты вступаешь в него как негласный компаньон. Причина? Разная. Например, кто-то хочет сохранять свое богатство в тайне или не хочет быть замеченным как источник денег. Негласный компаньон никогда не виден в акциях компании, его имя нигде не проявляется. На самом деле он участвует в деле только как финансист.
— Так я же тебя именно об этом просил! — воодушевился Кон.
— Ты подожди. Здесь свои пороги. Многое зависит от договора. Скажем, право видеть документы. Как правило, это позволяется негласному компаньону один раз в конце коммерческого года. Можно, конечно, обговорить условия в договоре, но надо сперва найти дураков, которые на это согласятся. Обанкротится предприятие, и весь твой депозит пропал. Согласен?
— Ммм...
— Погоди мычать. Есть два типа молчаливого партнёрства. Первый тип, как я понял по мычанию, ты исключаешь. Второй тип. Он даёт тебе право в результате подобной регистрации на расширенную ответственность, следовательно, корпоративный риск при разделении прибыли и убытков, сотрудничество и право на принятие решений. Это, как мне кажется, то, на что ты рассчитывал со своим приятелем. За исключением опять-таки «мелочи». Он должен хотеть организовать такое товарищество. Разве что ты выложишь за него часть капитала. Думай!
Домой Симон Кон вернулся в расстроенных чувствах. Рассуждения Буххольца давали химерическую надежду. А на что он надеялся? Весь немалый предпринимательский опыт говорил ему, что он в тупике. Было ещё упование на счастливый случай, который приходит нежданно. Не надо торопиться и торопить события! Случай сам выбирает время.
Наступил апрель. Бернхард вернулся из имения довольный, но озадаченный. Он отдал Кону денежный долг, но начать с ним важный разговор Кон не решился. А потом миновал сентябрь, пришёл и ноябрь 1935 года, и семья Кона перестала быть гражданами государства. Они в один миг превратились из граждан в подданных немецкого рейха. Кон пытался ещё шутить при встрече на лестничной клетке с соседом, на которого ещё недавно так рассчитывал.
— Ах, Берни, в мои шестьдесят семь лопнули все мои надежды жениться на молодой арийке, — говорил он с саркастической усмешкой. — Я ведь теперь к тому же только подданный...
На что Краузе удручённо покачал головой:
— Симон, если что, в нашем имении найдётся место для вашей семьи.
Он тоже пока ещё не думал, что всё это серьёзно, и с иронией добавил:
— По поводу бракосочетания — о новом порядке слыхали? Теперь жених и невеста обязаны обследоваться медицинскими работниками. Предписано: «Чтобы свет увидели только здоровые люди!»
— Это что же, вам со Штеффи... — Кон в изумлении замолчал.
Дух дышит, где хочет.
Моя авторская библиотека
Сообщение отредактировал Phil_von_Tiras - Понедельник, 17 Июл 2023, 13:45 |
| |
|
|
| Phil_von_Tiras | Дата: Вторник, 20 Июн 2023, 14:07 | Сообщение # 49 |
 Житель форума
Группа: Постоянные авторы
Сообщений: 1147
Статус:  | Глава 5
Симон Кон получает тревожное письмо и едет в графство Шаумбург-Липпе
В конце августа 1937 года Йеттка встретилась с Ильзе Адлер по её просьбе. Ильзе с мужем Юлиусом Шолемом ещё в 1928 году переехали в Берлин, но на лето ездили гостить в Обернкирхен к родителям Ильзе. Ильзе привезла и передала Августе письмо от Альфреда Кона, родственника семьи Симона. Альфред родом из чешской Либедице. Это село Либедице было заселено больше немцами, чем чехами. Здесь Симон Кон также заказывал у еврейских портных лёгкую верхнюю одежду для своего магазина и мог предложить её дальше другим продавцам как поставщик.
Альфред стал успешным купцом в Эссене. Его жена Эльсбет Лион была родом из Обернкирхена. У Эльсбет или, как её звали дома, у Эльзы, было три сестры: Юлия, Хелена и Мета. Мете с её мужем Германом пришлась по душе сионистская идея, они быстро разобрались в политической ситуации, терять им было мало что, и они ещё до 1933 года перебрались в Палестину. Альфреду было что терять, тревога день и ночь терзала его сердце, и он никак не мог найти правильного решения. Умом он был не очень силён. Тревожными фактами и мыслями о своих терзаниях он и поделился с родственником, надеясь на поддержку.
Йеттка вошла в комнату Симона, молча положила письмо на стол и тихо вышла. Открыл его Симон только вечером. Альфред писал:
«Дорогой Симон, пусть тебя не удивляет, что после долгого молчания я вспомнил о тебе. Дела у меня идут плохо, да разве только у меня! Моя Эльза недавно побывала у родственников в Обернкирхене, чтобы помочь Хелене переселиться к нам в Эссен. Волосы дыбом встают от того, что она рассказывает. Наверно, тебе известен врач доктор Вольрад Марк. Затравили парня, и он покончил с собой. А ведь даже по их понятиям (ты понимаешь, о ком речь) доктор Марк не был полным евреем. И до чего же он был любим в народе! Думаю, тебе это хорошо известно. Филипп Адлер окончательно закрыл свой текстильный универмаг. Банкротства ему едва удалось избежать совместными усилиями родственников. Та же проблема у Пауля Адлера. В универмаге Штадтхагена у Элиаса Лиона дела обстоят не лучше. Из-за потери продаж ему приходится смириться с сокращением дохода вдвое. С 1933 года он из-за бойкота потерял значительную часть постоянной клиентуры, а это были, главным образом, государственные служащие, портные, которые больше не решались покупать материалы от Лиона.
И вот теперь то, что, на мой взгляд, касается тебя лично. Ты ведь у Лионов один из главных поставщиков! Я думаю, тебе надо...»
Кона бросило в жар. Читать далее не было смысла. Вот и его догнали неприятности. Он понял, что имел в виду Альфред, и был с ним согласен. Надо, больше не откладывая, ехать в Шаумбург-Липпе. Да, у него приятельские отношения с партнёрами, но есть договор. Правда, от очередной партии тканей, которую он собрался было им привезти, придётся отказаться, следовательно, и машину нанимать не надо.
В четверг 9 сентября Симон Кон ехал в вагоне второго класса на Запад в направлении Ганновера. Он даже не сказал Йеттке о смерти доктора Марка. Ещё успеет расстроиться. Что касается Лионов, то они, несомненно, откажутся от поставок. Надо урегулировать по крайней мере финансовые вопросы, а правовые... При нынешних законах?!
Кон задумался. Сколько же достаётся его народу на протяжении столетий! Жизнь под прессом. Ему вдруг пришла в голову мысль: не в этих ли условиях причина его талантливости? Нас сначала любят, а потом ненавидят. Не любят? Ну не любят, но вначале уважают, потому что нуждаются. А потом гнетут, давят, притесняют, законодательно ограничивают... Они нас терпят, если им от нас становится хорошо. Но завидуют, когда становится хорошо нам! И здесь, из-за этих проблем давления и долготерпения расцветают изобретательность и изворотливость, пока не вырывается из подсознания неожиданный ход, изобретение, предложение, приносящее пользу всем.Тогда наступают вновь равновесие и сосуществование. И так вся наша история, как морская волна: прилив и отлив, прилив и отлив. И вновь прилив... Выделяются из массы немногие. Конечно, есть и очень успешные, но отвечать за них, если они вытесняют местных, приходится всем. Нет, не может быть чтобы не было выхода, чтобы у фашистов это получилось! А собственно, чего они от нас хотят? Денег? Для нас деньги вовсе не идеал. Идеал для нас — Бог! А деньги — только средство, когда нет других средств. Или когда нам не позволяли использовать другие средства к существованию, например, покупать землю для ведения сельского хозяйства. Таков путь почти двух тысяч лет изгнания.
Кон прервал свои размышления. Берни просил по пути, если сложится возможность, заглянуть в имение. Витцман давно собирался уехать из Германии, но до сих пор всё ещё здесь. Он, Бернд, не против, но всё же с имением надо решать. Пусть Симон присмотрится. Может быть, возьмёт на себя труд управляющего? У него, мол, организационного опыта достаточно. Здесь нужен всего-то надзор и учёт. Кон ухмыльнулся. Что ж, на обратном пути он заедет к Витцману. Еврею с евреем стоит поговорить в любом случае.
Лучшего места для встречи с коллегами и даже для деловой встречи, чем синагога, у евреев не существует. Поэтому в Обернкирхене Кон направился сразу туда. Как раз заканчивалась дневная молитва и можно было обговорить с людьми и своё пребывание, и новости. Ясно было, что его поселят в одной из комнат общинного центра при синагоге на Струллштрассе. Он всегда ночевал там. Это его устраивало.
От вокзала, небольшого двухэтажного строения, до извилистой Струллштрасе было около километра пути, но наступал мягкий осений вечер, и Кон решил прогуляться. На улицах было пусто. Только в кафе и булочных сидели завсегдатаи, а в ресторане, мимо которого он шёл, гремела бравурная музыка.
В общинном центре, весь вечер, лёжа в постели, он тяжело думал. С прекращением поставок значительная часть его средств существования исчезает. На свой небольшой магазин в Берлине особых надежд он не возлагал. Ему с двумя сёстрами многого не надо. Но есть ещё старшая сестра Берта. Она рьяная польская патриотка и свой Ястров, когда он предложил ей перебраться в Берлин, покидать не собиралась. Гордилась Пилсудским, который в 1926 году наконец даровал евреям гражданство. И что это за польское гражданство? Предложение премьер-министра, а заодно и министра религий Казимежа Бартеля отменить ограничения для евреев в области экономики, культуры и религии так и не было осуществлено. Пилсудский отменил лишь царские дискриминационные законы против евреев. Но он всячески стремился избавиться от еврейского населения. Традиционного антисемитизма он не отменил, да и кто может это отменить? Декретом? К тому же налоговая политика разоряла еврейских торговцев и ремесленников. А это, в свою очередь, влияло на посредников. Властям были важны «свои» коммерсанты, «свои» кооперативы.
У Берты трое детей, муж Луис. Как жить им дальше? Симон, вспоминая её, мысленно улыбнулся. Он называл Ястров по-немецки: Ястроу, а сестра сердилась. «Ястрове», — говорила она.
Город этот то польский, то немецкий. Политика. Городок небольшой, но промышленный. Там всегда жили евреи. Есть там большая табачная фабрика, основанная евреем Саймоном, есть ещё много чего, а главное — ещё три важные для его семьи фабрики — по производству тканей, обувная и картонажная. Ещё покойный Карл, муж Йеттки, имел деловые связи с картонажной фабрикой, а он, Кон — с тканями и обувью. Хороши польские товары и дёшевы. И что теперь будет с Бертой? Она в деле. А дети? Да, дети. У них, кажется, иная судьба. Старший сын Берты врач, и он уже в Аргентине, а Фрида, дочь Йеттки, нацелилась на Бразилию. Ей срочно нужны деньги.
Утром Кон проснулся с предночной установкой. Сомнения и колебания отброшены. Нужны деньги, и он должен их потребовать. Он имеет право на неустойку...
Собрались в общинном центре. Пришли коммерсанты по текстилю Леопольд и Элиас Лионы. Приехал и штадтхагенский Элиас, владелец текстильного универмага «Элиас Лион». Немного позже подошли Филипп и Пауль Адлеры. Явился, видно, любопытства ради, и торговец лошадьми Мориц Шёнфельд. За ним пришёл Бендикс Штерн, которого друзья звали Бенно. Когда все расселись, Леопольд Лион, старейшина синагогальной общины, взял слово первым. Он похлопал Кона по плечу и начал с успокоительной фразы:
— Можешь не сомневаться, Симон, ты был для нас хорошим, можно сказать, главным поставщиком, но оглянись вокруг!
— Что значит был, — возмутился Кон, — ты хочешь сказать, что вы расторгаете договор?
— Давай разберёмся, — Леопольд Лион достал и развернул бумаги...
А тем временем, пока компаньоны и коллеги разбирались в синагоге с бумагами, в квартире местного лидера НСДАП стоматолога Эриха Буххольца проходило совещание.
— Хайль Гитлер, партайгеноссен! — войдя в гостиную, приветствовал членов своей партийной команды Буххольц.
— Хайль Гитлер, геноссе Буххольц! — хором ответили своему лидеру сподвижники.
Буххольц с симпатией обвёл взглядом ведущий отряд молодых и мотивированных товарищей: плетёнщика корзин Фридриха Мёллера, стеклодува Генриха Роуза, кожевника Вилли Каргера, торговца лесоматериалами Генриха Фогта, администратора Рудольфа Хофмайстера, торгового служащего Генриха Бура, его брата Альберта и доктора Шульце-Нолле.
— Прошу садиться.
Жена Буххольца внесла на подносе и поставила на стол кружки с пивом. Когда все устроились, Буххольц продолжил.
— Нам оказано особое доверие партии. Вы помните октябрь 1934 года, когда из всех округов именно нам в Обернхкирхене была предоставлена честь
проведения окружной партийной конференции. Наш великий фюрер питает особенную склонность к нашему региону, и мы всегда были с ним. Мы были с ним и в 1932 году, когда он выступал в Ганновере на Шютценплатц, и зимой 1933 года в Бёзингфельде. И хотя нас отделяло лишь двадцать километров, вы знаете, как нелегко было туда пробиться из-за блокады левых. Это была битва прорыва, так её и будут называть в истории, и мы были в её передовых рядах. Партайгеноссен, вы теперь ясно знаете, кто наш враг! Мы ведь не против рабочих. Против них наши доморощенные коммунисты, агенты Москвы.
— Это верно, — зашумели за столом. — Долой коммунистов!
— Фюрер объяснил нашему народу, что их партия, этот московский наёмник, не за рабочих борется, а за интересы международного еврейства. Еврейско-большевистская опасность — опасность не только для немцев, но и для всех свободолюбивых народов. — Буххольц открыл тетрадку с конспектом.
— Я только вчера вернулся из Нюрнберга, где был на митинге. Послушайте, чему учит нас доктор Геббельс, и что мы обязаны беспрекословно принять: «Еврейство, признанный и разоблаченный носитель большевистской мировой революции, по существу представляет собой антисоциальный и паразитический элемент среди культурных народов. В большевизме оно нашло подходящую почву и может здесь процветать».
Альберт Бур поднял руку, намереваясь что-то сказать.
— Чего тебе, партайгеноссе Бур? — нетерпеливо спросил Буххольц.
— Я служил у одного еврея в магазине, Эрих, так хозяин до того ругал большевизм, что аж красным становился, как варёный рак. Слышать о нём ничего не желал. Вообще скажу вам, не дурак был.
— Все евреи дураки, партайгеноссе Бур, — с чувством превосходства произнёс Буххольц. — Тебе, Альберт, недостаёт политической грамотности, как, впрочем, всем нам, — он полистал тетрадку и, остановившись на важной странице, прочитал: «Я всегда придерживался мнения, что есть разные расы: умные, очень умные, менее умные и совершенно неразумные. Я всегда считал наш немецкий народ очень умным, и я всегда считал еврейство самым неинтеллигентным, если не сказать, самым глупым в мире». Кто это сказал? Это сказал Адольф Гитлер. Хайль Гитлер, партайгеноссен!
— Хайль Гитлер! — со взволнованными лицами хором ответили присутствующие.
— А теперь думай, Альберт, — рассудительно продолжил Буххольц, — если всё мировое еврейство глупое, то может какая-нибудь его часть быть умной?
— Логично, — согласился хор. Альберт Бур расстроенно крякнул и почесал затылок.
— Да кто такой, собственно, еврей? — запальчиво вступил до того молчавший доктор Шульце-Нолле. — Это враг мира, уничтожитель культур, паразит среди народов, сын хаоса, воплощение зла, фермент разложения, пластичный демон распада человечества!
— Браво, Александр! — воскликнул Фогт.
— Да нет, — скромно потупился Шульце-Нолле, — доктор Геббельс...
— Вернёмся к нашим делам, — Буххольц отложил тетрадку и смочил губы пивом. — Мы должны отчитаться за прошедший период. Давайте подведём некоторые итоги. И я должен, к сожалению, нелицеприятно указать сразу на наших товарищей. На некоторых из присутствующих.
— Да он врёт, этот сержант! — закричал с дивана Генрих Бур, догадавшись, куда гнёт шеф.
— Есть протокол сержанта полиции Эккардта, — сухо возразил Буххольц. — В нём сказано, что в ночь на воскресенье, 28 июля 1935 года, около 2 часов ночи в магазине Элиас Лион & Со были выбиты оконные рамы. Звон услышал не только сержант, но и торговец сигарами Беккер, который живёт через дорогу и в это время не спал, а также семья Пипер в гостинице «Штадт Кассель».
— И что из этого? — возмутился по-бычьи наклонивший голову Каргер.
— А то, Вилли! Сержант освещает фонарём дорогу, и что он, паршивец, видит? Он видит, как в два часа ночи не идут, а крадутся у ворот совершенно трезвые и уважаемые граждане города Генрих Фогт, Вилли Каргер и Генрих Бур. Поймите, партайгеноссен! Мне наплевать на еврейские оконные рамы, как и на всех наших евреев. Но мне не наплевать на их имущество! А партия не потерпит дикие и неспланированные акции. Тогда, перед олимпийскими играми в Берлине, нам досталось сполна от зарубежных шавок. Международное еврейство не спит, не дремлет. Но я успокою вас. Это дело, Вилли, я замял. Его закрыли за недостаточностью улик, — Буххольц хихикнул. — Оно над нами больше не висит. Но есть ещё два постыдных для партии события, и я обязан за них тоже отчитаться.
Буххольц перевёл дух. Партийцы устроились поудобней на своих местах.
— Не партия, а мы и наша местная организация порой теряет контроль над тем, кого мы принимаем в наши ряды. Я, — Буххольц перешёл на покаянный тон, — несу личную ответственность и принял меры к тому, чтобы этот факт не оставался для партии скрытым. И вы в своё время тоже справедливо возмущались. Я приведу вам мнение из доклада нашего уважаемого рейхсляйтера Ганса Франка о национал-социалистической расовой политике.
Буххольц вновь порылся в своей тетрадке.
— Вот, слушайте: «Знаменитые Нюрнбергские законы гарантировали германский тип немцев как единственного представителя своей судьбы и творца власти этой империи на все времена. Еврей является представителем народа, совершенно чуждого расовой субстанции Германии. Он не мог и не может быть носителем или соавтором немецкой судьбы». Это значит, — сделал вывод Буххольц, — что членом НСДАП может быть только ариец. Нет нечистых арийцев. Есть нечистые евреи и мишлинги5 разных степеней в том числе.
— А разве не было известно, что Зеловски мишлинг? — уточнил тему, поняв о ком речь и намёк, Шульце-Нолле.
— Проблема в том, что этот молодой человек Готфрид Зеловски окрестился и женился на дочери обернкирхенского стеклодува Ахилла, — вступил в разговор Альберт Бур. — Он прихожанин лютеранской церкви, которая до сих пор не решила, стоит ли ей и как держать святые руки над её новообращенными, тем более крещёными евреями. Хотя Прусский конфессиональный синод, собственно, подтвердил святость крещения.
— Но наша партия не церковь, Альберт, — заметил с усмешкой Шульце-Нолле.
— Согласен, Александр. Этот Зеловски служил начальником одной из производственных ячеек (НСБО) Национал-социалистической организации. Кроме того, он работал в офисе Германского трудового фронта, — добавил, как бы извиняясь, Бур.
— А это противоречит «Закону о восстановлении профессионального чиновничества», по которому не может быть чиновником ни один человек, у кого хоть один прародитель был евреем, — подчеркнул Фогт.
— До чего же нагл этот Зеловски, — вновь возмутился Каргер, — знал, как проскользнуть в партийную организацию и тут же в НСБО — черта, присущая этой расе.
— Мои слова, — Буххольц потянулся за газетой «Обернкирхенер Анцайгер», лежащей на полке буфета, нашёл страницу и стал читать: «Еврейский юноша, Готфрид Зеловски, из-за наглости, присущей его расе, сумел проникнуть в партийную организацию, в НСБО. По моим инструкциям он был взят под стражу, и у него будет несколько месяцев подумать о своей наглости в концлагере», — закончил цитату Буххольц и, отложив газету, продолжил:
— В самом деле, Зеловски еврей, а то, что он был крещён только в 1930 году, скрыл.
— А что мэр? — спросил Генрих Бур.
— Конечно, мэр Герцог не посмел мне противоречить, он арестовал его, — амбициозно заключил лидер местной группы НСДАП.
Все, удовлетворённые, рассмеялись и застучали пустыми кружками.
— Эй, женщина, пива! — крикнул Буххольц и продолжил. — Моя совесть не позволяла мне поступить иначе. Кроме того, руководство запросило достоверные доказательства арийского происхождения особенно государственных служащих. В августе Зеловски освободили, но я поставил ему условие Обернкирхен покинуть.
— Ну, Эрих, ты спас партию от общественного возмущения, — подтвердил Шульце-Нолле, — насколько мне известно, он согласился, но просил оставить семью здесь, пока не подберёт квартиру.
— Да чёрт с ней, пусть остаётся, — выругался Буххольц, — наши стервы тоже должны почувствовать, что значит спать с жидом. Но у нас ещё одна проблема, которую я обязан решить, запротоколировать и закрыть. Я имею в виду этого психа Вольрата Марка. Мы не имеем права быть сентиментальными, когда у каждого из нас есть свой еврей, — Буххольц слегка поперхнулся и, откашлявшись, продолжил. — Наш великий учёный и врач партайгеноссе Герхард Вагнер, я цитирую, учит нас: «Мы должны отказаться от осуждения нашего расового законодательства лишь потому, что оно может быть неудобным для отдельного человека. Мы также должны отказаться от отрицания наших расовых принципов из-за чьей-то индивидуальной судьбы».
— Этот доктор, — не называя имени, мрачно вступил Хофмайстер, — был моим преемником, руководителем нашей группы Стального шлема, ассоциации бывших фронтовиков. Вообще-то его уважали.
— Об этом и речь, Рудольф. У каждого из нас есть свой еврей, и с этим надо кончать, — подчеркнул Буххольц. — Да он, собственно, не наш. Он из Бад-Вильдунгена, где практиковал его отец, тоже Вольрад Марк. Странно. Впрочем, то были веймарские времена, и в этом городе почему-то одна из улиц носила его имя. Мне оттуда позвонили. Оказалось, папаша — еврейский полукровка первой степени. Само собой разумеется, улицу переименовали. Конечно, и мне пришлось принять меры в соответствии с законом. Еврей не может лечить ариев. Я шприц в руки ему не клал. Так вы поняли установку партии относительно «своих евреев»? На будущее...
Буххольц уткнулся в тетрадку, что-то там высматривая. Но повестка дня была исчерпана. Поговорили ещё с полчаса, попили пива и, довольные собой, разошлись.
5 Мишлинг — одно из расистских определений людей в гитлеровской Германии прежде всего еврейского происхождения.
Дух дышит, где хочет.
Моя авторская библиотека
Сообщение отредактировал Phil_von_Tiras - Вторник, 20 Июн 2023, 14:39 |
| |
|
|
| Phil_von_Tiras | Дата: Среда, 28 Июн 2023, 17:23 | Сообщение # 50 |
 Житель форума
Группа: Постоянные авторы
Сообщений: 1147
Статус:  | Глава 6
Симон Кон, не решив проблем, возвращается в Берлин
Симон Кон в этот свой приезд не узнал Обернкирхен, как и весь район в целом. Как будто он приехал в чужую страну с непонятным народом, с незнакомой психологией. К политике он был всегда равнодушен. Наша политика закончилась с разрушением Храма, говорил он, имея в виду Иерусалимский храм. Красные, коричневые — большая ли разница? И те и другие антисемиты. Куда уж было ему понять, что происходит в стране, которую он полюбил. Не понимали головы и покрупнее его.
А происходило всё слишком стремительно для времени жизни одного человека. И происходило это в местах, в которых он обитал.
Здесь, в Обернкирхене, со значительной долей среди населения рабочего класса, напряжение началось особенно на стыке 1932/33 годов. Как во всём Шаумбург-Липпе, так и по всей стране с шестью миллионами безработных тема занятости не сходила с повестки дня политических партий. Безработица сдвигала не только настроения, но и политические предпочтения.
Его партнёры разъяснили ему, почему претерпела существенные потери розничная торговля. О какой покупательной способности могла идти речь, если у рабочих, а они и были преимущественными клиентами, заработная плата сокращалась законодательно? И что предпринимает Бергамт, то есть горнодобывающее учреждение государственного надзора, который призван не только контролировать, но и охранять труд? Он предлагает шахтёрам старше пятидесяти лет подавать заявления о выходе на пенсию.
Разумеется, НСДАП использует недовольство масс. Нюх у неё слишком хорош.
Правда, Обернкирхен всё ещё остаётся «красным», несмотря на политические просчёты коммунистов и социалистов. Город всё-таки рабочий. На прилегающей территории разрабатываются песчаник, каменный уголь. Есть стеклофабрика, мебельное производство.
Первых нацистов в городе встречают насмешливо. Местное население Обернкирхена окрестило их «мартовскими кроликами». Эти «кролики» — около 60 новых членов НСДАП. Муниципальные выборы пока обеспечивают левым большинство мест. Однако попытка объединения в едином фронте против правых отвергается социал-демократами. Это стало роковой ошибкой! Более того, в самой СДПГ растёт раскол, когда становится известно, что мэр города и член городского совета доктор Хенкельман подаёт заявление на вступление в НСДАП. Конформизм это или действительная смена убеждений?
Ещё до 30 января 1933 года, когда Гитлер получил власть из рук Гинденбурга, НСДАП делала успешную ставку на деревню. А после 30 января поддержка населением нацистской политики становится лавинообразной. Если не антипатии, то равнодушие населения к надоевшим и бесплодным идеям СДПГ и КПГ открывают нацистам дорогу к расправе над теми и другими. В Шаумбурге арестован Карл Абель, глава КПГ провинции. Эта участь ждёт и остальных.
— Они топтали меня до тех пор, пока не вышла моя прямая кишка, — напишет он позже о методах работы СА и СС. Стекловар Рудольф Вилкенинг арестован на улице за «подготовку к измене». Его преступление: он продавал членские марки КПГ.
Мэры городов, высшие органы полиции получают секретное радиосообщение с приказом: «Все коммунисты, которые выдвинуты кандидатами в рейхстаг и ландтаг, должны быть арестованы и доставлены в Берлин общественным транспортом». В Обернкирхене у городского фонтана национал-социалисты разыгрывают представление: сжигаются флаги Единого фронта, КПГ и СДПГ, и их молодёжных организаций. Сжигается имперское знамя, флаги профсоюзного картеля и оппозиционного Красного Союза. Еврейское население города в полной растерянности. Старые знакомые перестают узнавать их на улице. У обывателя тоже хороший нюх.
По всей стране чрезвычайным указом ограничивается свобода собраний и печати. Неважно, член ли ты профсоюза или социалистической рабочей молодёжи, входишь ли ты в рабочий спортивный клуб — ты предмет охоты и преследования. Охвачены все уровни оппозиции. Если не получается «привести в соответствие» церковные молодёжные группы, спортивные и хоровые группы, они распускаются. Сортируются учителя и государственные служащие на верность линии партии. Старая прусская юридическая норма, так называемая защитная опека, которая позволяла с целью защиты общественности 24 часовой, то есть временный, арест, теперь открывала полиции, СА и СС возможность произвольно арестовывать людей на любое время без судебного на то приказа. На фоне привычного до того бездействия такая энергичная деятельность создавала у обывателя иллюзию чего-то значительного.
Далее следуют аресты как мера пресечения с длительным задержанием. Уже есть первый концентрационный лагерь в Дахау и возможность потренироваться в школе убийц. Кроме того, «по просьбе трудящихся» переименовываются улицы, парки, спортивные арены. Им присваивается имя Адольфа Гитлера. Города наперегонки объявляют фюрера своим почетным гражданином.
Наконец оппозиция изолирована. Но это на первых порах. После этого можно взяться за евреев, гомосексуалистов, синти и рома, свидетелей Иеговы, а также за неугодных священнослужителей других вероисповеданий. Сначала идеологически: против «мировой угрозы еврейства». К пропагандистским акциям подключаются известные деятели крупного бизнеса. Они тоже «за», им это выгодно. Горный асессор Трейс как директор завода в своей вступительной речи говорит с убеждением, которое вполне в духе идеологии партии: «К сожалению, марксистская еретическая идея классовой борьбы смогла создать глубокий раскол между работниками и работодателями, которые в любом случае зависят друг от друга. Открытие новой эры, вызванное нашим народным канцлером Адольфом Гитлером, смело ошибки прошлого, как освобождающий порыв ветра»... О содержании этой речи, как и о аналогичных выступлениях рассказал Адлерам знакомый инженер...
В общинном центре Леопольд Лион отложил в сторону бумаги. На мгновенье задумался и резко сменил тему разговора.
— Симон, — с досадой сказал он, — неужели ты не понимаешь, что происходит здесь с нами и что может, не дай Бог, произойти с тобой? Мориц, — обратился он к Шёнфельду, — расскажи ему.
— Оставь, Лео, — вступил Пауль Адлер, — этот ветер подует-подует и утихнет. Подумаешь, сотня нацистов на тысячу жителей города! Большинство в их акциях не участвует. Кому надо, всё равно покупают и покупать будут. Можно и через заднюю дверь. Пока. Будет снова хорошо! Помнишь, как потешались над нашим клиентом Хехевега, когда он патрулировал магазин? Говорили: «Стоит у Лионов и стережёт свои долги».
— Оптимист, — усмехнулся Леопольд и потянулся к подшивке «Шаумбургер цайтунг», отыскал номер и прочитал в нём фрагмент. — «Еврей Мориц Шёнфельд-старший вчера был взят под стражу. Причиной ареста стала дерзость со стороны этого еврея, для которого солидные побои могли бы стать лучшим наказанием. Мориц осмелился выносить свой еврейский приговор правительству Гитлера».
— Слышите, — подчеркнул Леопольд Лион, — «еврейский приговор», не меньше. Мы теперь все по их терминологии «вредители народного тела» и должны из страны исчезнуть. И это был у нас только первый арест еврея! А потом был ещё один. Кого? Опять же его. За что? За несдержанность языка. Ну расскажи, Мориц, что ты молчишь?!
— Пусть критиковал, — отозвался, упорствуя, Шёнфельд, — не стрелял же! И вообще, какие-то третьи лица донесли. Прямой поклёп! Всегда критиковали власть. А национал-социалисты не критикуют?
— Филипп, — повернулся Леопольд к Адлеру, — теперь объясни Симону, почему ты закрыл свой универмаг. Сорок тысяч рейхсмарок дело не спасли, хотя все твои родственники помогали своими кредитами.
— Лео, ты не прав, — возразил Филипп Адлер, — бойкот бойкотом, не спорю, но тогда рабочие просто не имели чем платить, мы же широко отпускали им в кредит. Кто, кроме евреев, это делает? Их долг составлял 26470 рейхсмарки, и его невозможно было востребовать. Меня удивляет, какой «любовью», нет, каким признанием они нам платят теперь! У Пауля было то же самое, поэтому он и продлил лицензию на развозную торговлю. Другое дело, когда люди Шульце-Нолле блокировали вход в текстильный магазин Elias Lion & Co. На Курцештрассе. Аналогично они поступали в Ринтельне, Ольдендорфе, Бюккебурге, Штадтхагене... Короче, бежали впереди паровоза.
— Даже своих однопартийцев предупреждали, — добавил Пауль, — любой, кого поймают на покупке, может ожидать немедленного исключения из движения.
— Холуй стремится быть праведней своего хозяина, — вставил Мориц Шёнфельд. — Там наверху не очень обрадовались здешнему насилию, потому что не хотели терять лицо перед олимпийскими играми в Берлине. А наших холуёв особенно волнует чистота расы. Помнишь, Лео, шум вокруг листовки в Хессиш-Олдендорфе? Там призывали повесить бедного Манхаймера на виселице за то, что он якобы сексуально оскорбил 15-летнюю немецкую ученицу.
— При том, — подтвердил Леопольд, — что прокурор позже уличил девушку во лжи и разоблачил обвинение. Однако шар пущен по кегельбану, его не остановить. Там же в Ольдендорфе их пропагандист, некий Карловиц (он, кажется, учитель) целый час рассказывал о расовоосквернительном насилии еврея Манхаймера, что стало достаточным основанием для погрома еврейской собственности.
— О, эта еврейская собственность, до чего она им мозолит глаза! — воскликнул Эли. — Но эти молодчики избивали почти всех евреев в Роденберге, кто попадался им на пути, а Вилли Лемана избили за то, что он, мол, имел отношение к «медхеншандеру», то есть «осквернителю девушек» Манхаймеру. Совместное купание в бассейне ариев и евреев — тоже расовое осквернение. И общественные бани забудьте!
— А как там насчёт общественных туалетов? — риторически спрашивает злой на язык Мориц и сам же отвечает. — Ну как же, как же, осквернение немецкой крови и особенно чести! Её надо от еврейских задниц защищать. Я вам скажу, хаверим6, что после этих листовок стоит призадуматься. На эту мысль меня наводит содержание одной из них. Хотя она формально и конфискована полицией, но в оборот запущена. Там такой призыв ко всему населению: «Мы не успокоимся, пока Обернкирхен не станет свободным от евреев, пока мы не избавимся от всего „избранного“ народа». Не избавиться ли и нам от высшей „избранной“ расы?
— В смысле уехать? — вступил до этого молчавший и внимательно слушавший Кон. — Это не так просто, — он вздохнул. — А что произошло с доктором Марком? Я так толком и не понял.
— Тебе кто-то об этом написал? — спросил Леопольд и стал объяснять. — Вольрад Марк был вполне консервативным, можно сказать, даже националистом. На войну в 1914 он записался добровольцем. Но как практикующий врач был неутомим и самоотвержен. Поэтому снискал большую популярность именно среди рабочих. Он помогал их жёнам при родах и особенно целенаправленно заботился о рождённых детях, лечил их при заболеваниях. Его зелёный «опелёк» можно было видеть в городе в любое время суток. Первый удар он получил с переименованием улицы, которая в его родном городе носила имя отца, и вполне заслуженно. Отец был медицинским советником, ему принадлежит фундаментальное исследование «Бад Вильдунген, его минеральные источники и их особое лечебное значение при болезнях мочевыводящих путей». Благодаря этому труду, как вы понимаете, чрезвычайно возросло значение курорта, что дало и экономические выгоды. Диагнозов болезней мочевыводящих путей в стране хватает. В честь его отца даже смотровая башня в городе была названа «Доктор Марк». Затем последовал второй удар. Поскольку оклеветать его, как оклеветали Зеловски в выманивании должностей, было невозможно, то действовали тихой сапой в полном соответствии с Нюрнбергскими законами. В одночасье из заслуженного немецкого солдата, любимого и уважаемого врача, верного сторонника национального дела он превращён в расово низшее существо, в нацвредителя. Врачебную лицензию у него отобрали, офис в Обернкирхене закрыли, из «Стального шлема» изгнали! Всё это за одну ночь. И никаких публичных комментариев! Кто из нас поступил бы иначе? Он выбрал смертельную инъекцию. Для всех нас это огромная потеря, потому что доктор Марк был специалистом широкого профиля и в критических случаях его диагноз и заключение были решающими. После всего этого убитая горем и позором бедная жена продала офис и уехала в Бад Вильдунген.
На пару минут в комнате воцарилась гнетущая тишина. Непонятная и не предсказуемая сила могильным холодом повисла в синагоге над головами людей. Леопольд Лион вновь потянулся к деловым бумагам и тускло произнёс:
— Давайте жить дальше.
И обратившись к Кону:
— Не знаю, как там у вас в Берлине, но что творится у нас, ты теперь знаешь.
Симон Кон сидел подавленный.
— Симон, ты не единственный наш поставщик, а решать нам придётся со всеми, значит, и с тобой. Предполагаю, что бойкотом дело не закончится, но и его достаточно, чтобы нас полностью разорить. Де-факто мы не в состоянии вести торговлю дальше, де-юре вопрос стоит о расторжении договора на поставки.
— Мне это ясно, — рассердился Симон, — но ведь я в деле не один! Как я рассчитаюсь с поляками, с транспортом? А налоги? Вы думаете, государство не сунет сюда свой нос? Не мне, а делу наносится ущерб расторжением договора, и... — он несколько смутился, но закончил, — и ущерб должен быть компенсирован. В комнате переглянулись.
— Поэтому мы и хотим оформить всё полюбовно и юридически, — сказал Филипп Адлер.
— Никто не собирается тебя обманывать, — утешительно произнёс Леопольд. — Давай договоримся без суда, у нас пока ещё есть свой нотариус, то есть не еврей, но человек честный, законник.
— Это мне интересно узнать, — заметил Кон. — Внеочередное прекращение договора предполагает наличие важной причины. И тут мы заявляем нотариусу и вносим в протокол, что этой важной причиной является бойкот и травля со стороны НСДАП?
— Подожди, Симон, — с теплом в голосе продолжил Леопольд, — ты был всегда хорошим товарищем и не торопил с выплатами. Ты поставлял нам нужные товары, в нужном количестве, правильного качества, по справедливой цене, в нужное время и в нужное место. Порой ты даже допускал скидки. Но и мы выполняли свои обязательства!
— Я этого не отрицаю, — подтвердил Кон.
— Мы не объявляем банкротство, все невыплаченные суммы по поставкам ты получишь сегодня же. Теперь суди сам. Закон допускает расторжение договора в случаях чрезвычайных. Мы же продаём, и ты поставляешь товар в соответствии с текущей модой, то есть наш договор имеет сроки, и он заканчивается автоматически, если товар больше не соответствует моде. А в моде, причём не только на готовую одежду, но даже на ткани, уже теперь мы замечаем что?
— Политическое давление, — вставил Мориц Шёнфельд.
— Правильно, Мориц, — продолжил Леопольд, — ткани коричневых цветов, пожалуйста, всех оттенков для всех. Чёрных — тоже для бравых парней. Униформа для мужчин, обязательные передники для женщин. Уже выставлены образцы текстильных коллекций. Экономии ради такие ткани, как шёлк и бархат, должны быть заменены материалами-заменителями, например, выгорающим бархатом, люрексом или вискозой. И кругом скромность, скромность, скромность... Не для госпожи Геббельс, конечно! Деньги нужны для других целей. Симон, ты можешь обязать поляков шить роскошные формы для эсэсовских офицеров? Сможешь их нам привозить? И будет ли нам позволено их продавать?
— О, могу себя представить рожу Шульце-Нолле, на которого еврей примеряет форму, — горько ухмыльнулся Бендикс Штерн.
— Отношения с Польшей пока как будто нормальные, — не обращая внимания на реплику Бенно, заметил Кон. — Хотя... Что же ты предлагаешь, Лео? — понурившись, вполголоса спросил он.
— Вот именно, пока. Сам не веришь. Пиши нам коммерческое предупреждение.
Леопольд достал листок и прочитал образец предупреждения: «Настоящим в предусмотренный срок я, Симон Кон, прекращаю договор поставок с 15 сентября 1937 года по чрезвычайным обстоятельствам с немедленным вступлением в силу в связи с отказом иностранных производителей шить по немецким стандартам».
— Мориц отвезёт тебя в Бюккебург, там отправь нам письмо с местного почтамта. Остальное мы провернём с нотариусом. И ещё... Поскольку эта горькая чаша общая наша беда, мы, конечно, соберём для тебя энную сумму и внесём в протокол как факт компенсации.
Кон поднялся со стула и протянул Лиону руку. Это уже было что-то.
Через день из Бюккебурга он отправился в имение «Вилла Краузе» к Витцману. Его взял как попутчика в машину знакомый торговец, и они направились по местным дорогам мимо Хессиш-Олдендорфа вдоль спокойной реки Везер с её заросшими густым кустарником берегами через город Хамельн и далее по первой государственной дороге до Коппенбрюгге. Природа была настолько идиллической, всё вокруг так пело и ликовало, что трудно было себе представить: эти радости из-за наступивших забот больше не для евреев. Кон немного вздремнул, а через час с небольшим он уже дружески обнимал Витцмана.
В гостях Кон пробыл два дня. Он восхищался Витцманом, его мастерством. «Боже мой, — думал он, — и здесь еврейский гений творит чудеса! И это после двух тысяч лет запрета владеть землёй и производить сельскохозяйственную продукцию». Но лично для него двух дней было достаточно, чтобы понять свою полную непригодность заниматься сельским хозяйством и притом обеспечивать Краузе сносным доходом. К тому же он поставил бы в затруднительное положение семью Витцмана, глава которой был добросовестным арендатором и хотел передать хозяйство в надёжные руки, прежде чем покинет своё дело. Кон мог бы взять с собой большую корзину с фруктами, но не хотел обращать на себя внимание так как возвращался в Берлин поездом.
Будущее рисовалось ему тревожным и проблематичным.
6 Хавер (ивр. товарищ. Мн. ч. хаверим). Термин имеет ритуально-историческое значение в иудаизме.
Дух дышит, где хочет.
Моя авторская библиотека
|
| |
|
|
