|
Евгений Рудов
|
|
| Evgeniy | Дата: Воскресенье, 24 Фев 2013, 14:06 | Сообщение # 1 |
|
Группа: Удаленные
| 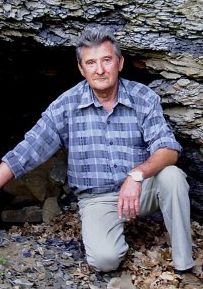
Евгений Руднев
Биография
Родился в 1940 г. в Донбассе, в поселке шахты 5/7, близь Г. Красный Луч Луганской обл. В 1961г окончил Новочеркасский геолого-разведочный техникум и по конец 1980г работал на Севере − от Урала до Чукотки в геолого-разведочных партиях.
Вели разведку, т.е. бурили на нефть и газ в Западной Сибири, мыл золото и касситерит на Чукотке (какая непередаваемая красотища – это северное сияние!). В Восточной Сибири бурили на бокситы, золото, железо, антимонит, свинец и цинк (крупнейшее в Союзе свинцово-цинковое месторождение – уходило под Ангару. Попробуй, достань! За его открытие группа геологов получила Ленинскую премию.).
Заочно закончил Красноярский политехнический институт. В конце 1980г уехал домой, в Донбасс. Работал гл. механиком Дорожно-строительного управления, гл. механиком (на ступеньку выше) промышленно-строительного треста. После развала Союза был приглашен на должность гл. механика в частную дорожную фирму.
Писать начал после сорока лет, а издаваться гораздо позже. Изданы несколько книг: «Медвежонок» − рассказы и повести, «Пойнтер Либериха» − рассказы о шахтерах, небольшая книжка стихов − «Край мой шахтерский», издан альбом моих песен − «Шахтерские песни», музыка моего сына-композитора в переложении для фортепиано.
Перевел и издал книгу рассказов для детей немецкой писательницы Лило Гардель, получившей на конкурсе детской и юношеской литературы Министерства культуры Германии в 1957г. первый приз.
В настоящее время находятся в издательстве две мои новые книги: «На северной параллели» − рассказы для детей среднего и старшего школьного возраста и еще один альбом – «Лирические песни». Почти готова книга рассказов из современной жизни, но катастрофически не хватает денег.
Евгений Рудов
г. Красный Луч
Украина
***
Невольница
Она вошла в аудиторию, и это было для всех такой неожиданностью, как внезапно упавший на землю метеорит. Темно-шоколадное с синеватым оттенком лицо, такого же цвета оголенные до плеч руки, туфли-платформы на невероятно толстой подошве, платье замысловатого рисунка с разбросанными по его полю, переплетающимися между собой геометрическими фигурами – квадратами, треугольниками, окружностями, как на картинах художников-импрессионистов, и глаза, резко контрастирующие снежными белками с темной, почти черной кожей.
Аудитория с нескрываемым интересом разглядывала африканку и не потому, что здесь никогда не видели выходцев с черного континента. Они давно уже стали нормой во многих институтах. Поразило нахальство, с которым она, нисколько не чувствуя стеснения, не поприветствовав теперь уже ее однокурсников хотя бы кивком головы или просто улыбнувшись, прошла мимо стоявших на ее пути и расступившихся перед нею столпившихся ребят и с гордым и независимым видом заняла свободное место у студенческого стола.
Наши девочки, окинув ее пристальным оценивающим взглядом, тут же отворачивались, теряли интерес, настоящий или показной, трудно сказать, а мы, парни, сгорали от любопытства.
Лекция была самой первой, только начался учебный год. Земля крепко держала еще в себе летнее тепло, на асфальте под окнами ворковали голуби, а с кафедры доносился ровный монотонный голос преподавателя минералогии.
− Минералами называются однородные по химическому составу и физическим свойствам составные части твердой земной коры...
Аудитория конспектировала. Над тетрадками клонились головы, торопливо двигались авторучки.
− Посмотри на нее, − зашептал мне в самое ухо Костя, с которым мы недавно познакомились и подружились. – Все пишут, а она нет.
Я глянул в ее сторону. Действительно, она не писала. Сидела, подперев одной рукой подбородок, другую положив на стол, но, как мне показалось, внимательно слушала.
− И что из этого? – спросил я.
− А то, что она не знает русского языка. Так, для виду будто бы слушает. И откуда ей знать? Африка! Если судить по ее коже, самая глубинка. Как у нас деревни.
После лекции Костя потянул меня к ее столу. Негритянка подняла на нас глаза и с таким же любопытством, как и мы ее, стала разглядывать нас.
− Хау ду ю ду, − выпалил Костя все, что знал по-английски.
В ответ ему она в легкой насмешливой улыбке разжала толстые синеватые губы, показав оба ряда крепких белоснежных зубов.
− Видишь, ни бельмеса не понимает по-нашему. Черт знает, какой у них там язык. Спроси ты у нее что-нибудь.
И я спросил:
− Как вас зовут? Из какой страны вы приехали? Африка очень большой континент.
− Думаешь, она что-нибудь поняла? – скептично отнесся к моей попытке завязать разговор Костя.
И вдруг на понятном с детства нам языке, пусть и с неизвестным для нас акцентом, негритянка ответила:
− А что значит «ни бельмеса»?
Мы оцепенели, невольно оказавшись в роли героев немой сцены комедии Гоголя «Ревизор». Помните слова жандарма? «Приехавший из Петербурга чиновник требует вас сейчас же к себе».
Надо было «спасать» положение, и Костя, как более словоохотливый, принялся за дело.
− Это простонародное выражение, определяющее высокий уровень познаний человека, − бессовестно врал он.
Негритянка склонила набок голову, и в ее глазах я увидел веселых пляшущих бесенят. Она все поняла, но, притворяясь, подсмеивалась над нами. Опережая бахвальство Кости, я спросил:
− Как ваше имя?
− Зовут меня Тамила. Я из Камеруна.
− О! – удивились мы. – Ваше имя созвучно нашему распространенному имени – Людмила.
− Вы так хорошо говорите по-русски, − не переставали удивляться мы.
− Мой папа геолог, работает вместе с вашими специалистами в нашей стране. Он брал меня на полевые сезонные работы, и там я подружилась с дядей Андреем и дядей Сашей. Они учили меня своему языку.
− И вы решили тоже стать геологом, как и ваш папа?
− Да, я буду помогать ему.
− А почему вы ничего не записываете? Вам все это уже известно?
− У меня есть… вот, − вытянула она из сумочки и положила на стол отливающую глянцем штучку. – Диктофон. Очень удобно и не обязательно конспектировать.
Такое удобство нам было не карману. Мы только позавидовали Тамиле.
На видном месте при входе в институт на стене, освещенной рядом высоких, выходящих во двор окон просторного вестибюля, висела доска расписания занятий. Сбоку, присоседившись к расписанию, косо, сорвавшись, на одной кнопке наспех был приколот лист с объявлением – желающих участвовать в постановке спектаклей просим зайти в аудиторию 314.
Костя, Тамила и я стали неразлучными. На лекциях сидели рядом за одним столом, вместе посещали библиотеку, ходили в кино. Иногда ловили на себе завистливые взгляды однокурсников.
Прочитав объявление, Костя загорелся.
− А что, почему не попробовать? Станем известными на весь институт, а может и выше.
Триста четырнадцатая отличалась от других аудиторий. Она служила для репетиций и выглядела на первый взгляд полупустой, разве что слева и справа вдоль ее стен стояли ряды стульев, а против входа в нескольких шагах от двери – режиссерский стол, вокруг которого собралась толпа.
Когда мы вошли, говор стих, толпа раздвинулась и из глубины ее над столом выглянула голова режиссера. Какое-то время нас рассматривали молча. Я думаю, из всей нашей тройки интересовались больше Тамилой.
− Новенькие? Первокурсники? – был задан первый вопрос.
Мы с Костей кивнули.
− Хотите к нам в студию?
Мы кивнули вновь.
− У вас языки есть? Или вы не знаете русский, как и ваша чернокожая подруга? Ее можем взять на роль служанки богатой семьи. Нескольким необходимым словам научим.
Сцена вышла неприятной. Костя назвал режиссера самодовольным индюком, после чего к нам двинулись двое крепких парней с намерением вышвырнуть вон, но инициативу перехватила в свои руки Тамила.
− В подобных ситуациях надо вести себя сдержанно, − примирительно заявила она, − особенно в присутствии женщины. Искать консенсус между сторонами, как говорил один из ваших Президентов.
На Тамилу таращились удивленные глаза. Мы повернулись и двинулись к выходу.
− Постойте, постойте, − запоздало пытался остановить нас режиссер.
Дверь осталась далеко позади, но Костя еще не остыл. Он не переставал возмущаться.
− Роль служанки! Двум словам обучим! Сколько гонора. А не подумал, что Тамила наша гостья и, может статься, королевского рода и с ней не пристало так говорить.
Тогда я и не предполагал, как близко был он к истине.
Несколько дней в нашей тройке не слышалось смеха, а Костя выглядел так, будто был занят решением важнейшей научной проблемы, все время морщил лоб и отмалчивался. Но долго это не могло продолжаться, жизнь брала свое, и скоро наш друг внес новое предложение.
− У меня созрела маленькая идейка, − как итог долгих раздумий неожиданно выложил он.
− Ну-у! – выразил поддельный восторг я. – А нам не намнут бока, как это могло случиться совсем недавно, не будь рядом Тамилы.
− Работать будем одни, самостоятельно.
− И что за работа? – уже с интересом спросил я.
− Поставим свою пьесу. Сами. Обойдемся без режиссеров, − это был намек на инцидент в триста четырнадцатой. – Прямо среди народа, в самой его гуще. Например, на рынке. Будет натурально и поучительно.
Мы с Тамилой переглянулись.
− И как ты себе представляешь это? Чья хотя бы пьеса? Известного автора?
− Моя! – гордо заявил Костя.
− Вот это, да! – только и выдохнул я. – Ты стал драматургом?
− Читали «Хижину дяди Тома»? – спросил он.
− Конечно. Кто не знает эту прекраснейшую книгу Бичер-Стоу?
− Возьмем из нее небольшую сценку, продажу молодой невольницы, − продолжил Костя.
− И в главной роли, конечно, ты видишь Тамилу, так? А ее спросил? И кто, по-твоему, будет продавать рабыню?
− Мы. Ты и я, − стоял на своем он.
− Занятно. Тамила, слышала? Что скажешь?
− А что, − смеясь, пожала плечами она. – Если сценарий будет выглядеть пристойно, можно попробовать.
Итак, решено было немедля начать подготовку к постановке спектакля. Сразу появилось множество вопросов. Надо было сообща обговорить все детали будущего представления. После лекций остались в аудитории.
− А не лучше все же попроситься на институтскую сцену? – засомневался я. − Если плохо сыграем, освищут и только. А на рынке всякое может случиться.
Нет, − решительно запротестовал Костя. – Будем играть в гуще народа.
− Тогда нужно съездить на рекогносцировку. Определиться с местом выступления.
− Согласен, − кивнул головой он. – Завтра же и сделаем это.
Мы долго сидели в пустой аудитории, перебирая всевозможные варианты нашего будущего выступления. Каждый вносил что-то свое, оно принималось или отвергалось, но после продолжительных горячих споров пришли к согласию.
Намеченный выходной выдался теплым и солнечным, как и предыдущие дни. Над городом высоко в небе медленно плывут редкие белые облака. Стояла приятная во всех отношениях осень. Исчезла та изнуряющая летняя жара, от которой невозможно было спрятаться даже в тени.
В ожидании Тамилы устроились на лавочке во дворе общежития. Разглядываем студенток, хлопающих дверьми на выходе. Все они нарядные и куда-то очень торопятся, спешат.
− И во сколько ты оценил Тамилу? – задаю мучавший меня вопрос Косте. – Миллион долларов?
− Тамила стоит и больше – отвечает он, − но такая сумма будет отпугивать покупателей. Торги выйдут вялыми или могут не состояться вовсе. Пусть будет сто тысяч.
− Не просчитаемся? Тугих кошельков в столичном городе много, − беспокоюсь я. – Ну, как выложат требуемую сумму?
– Миллионеров здесь хватает, − соглашается Костя. – Это верно. Только кто носит при себе столько наличными? Будем надеяться, не встретимся с ними.
А вот и Тамила. Она спускается по ступенькам и идет к нашей скамейке. Боже, какое чудное создание! В обтягивающих фирменных джинсах, на высоких каблучках, белоснежная без рукавов блузка, оттеняющая темную кожу, легкость шагов…
− Привет мальчики, − улыбается нам.
− Тамила, − приятно были шокированы безупречным видом нашей подруги мы. – По сценарию ты должна выглядеть проще, скромнее. Как договаривались. Ты – рабыня, а не принцесса на выданье.
− Вы совсем не знаете современных африканских женщин. Если сегодня где-то еще и есть невольницы, они уже вовсе не такие, какими были во времена Бичер-Стоу, − смеется она.
Деваться некуда. Тамила внесла существенную поправку в предстоящую постановку. Женщины наблюдательнее нас, мужчин, их чутье тоньше. Соглашаемся.
В троллейбусе не то, что сесть, ступить было негде. На остановках народ штурмовал двери. Казалось, в этот выходной день весь город в одночасье покинул свои жилища и ринулся по своим неотложным делам.
Ухватившись за поручни, сдерживая спинами человеческий натиск, мы защищаем от толкотни стоящую между нами Тамилу. Едем молча и только у Центрального рынка с облегчением вздыхаем, оставив тесный городской транспорт.
Широкие двустворчатые металлические ворота рынка, украшенные завитками ажурных сплетений кованых стальных прутьев, выкрашенные в черный отливающий глянцем цвет, были распахнуты настежь, и в них ежесекундно туда и обратно вливался и выливался мощный неспокойный людской поток.
Костя шел впереди, расчищая мне и Тамиле дорогу, протискиваясь в узких заполненных людьми проходах между рядами торговых контейнеров.
Минут через десять вышли к намеченному заранее месту. Это была небольшая площадь, образованная с двух сторон старой постройки из белого кирпича хозяйственных и галантерейных магазинов. Здесь было свободней. На ней мы и остановились.
Костя полез в полиэтиленовый пакет, который нес от самого общежития, достал приготовленный на плотном листке бумаги плакат со шнурочком по концам, пропустил через голову Тамилы, повесил ей на шею.
Продается рабыня, 18 лет.
Знает иностранные языки −
русский и английский.
Умеет готовить и вести
домашнее хозяйство.
Отступил в сторону и, представив себя на сцене, громко продекламировал Маяковского:
− Крепи у мира на горле пролетариата пальцы!
На нас стали оглядываться и останавливаться.
− Во дают! – это было первое услышанное нами слово собравшихся поглазеть на необычный товар. Мужик в закатанной до локтей серой рубашке держал в руках авоську с квохчущей рыжей курицей. Прочитав плакат, стал рассматривать Тамилу.
− А ничего баба. Хоть и не наша, а рожает, поди, как и все.
Вокруг стали смеяться.
− А ты испытай. Купи и проверь.
− Настоящая или крашеная? – допытывался он.
Тамила стояла, опустив глаза, изображая полную покорность выпавшей ей рабской доле.
− И почем продаешь?
− «Почем» − продают курей. Когда их много. Вот ты, − Костя кивнул на авоську с рыжей хохлаткой, − почем покупал?
− Взял на развод. Рыжие куры несут коричневые яйца. А мои откладывают одни белые.
− Не пудри мозги людям, − раздался из толпы «просвещенный» голос. Он был адресован Косте. – Сейчас двадцать первый век. Рабство давно отошло в прошлое.
Ему стали возражать.
− Ага, легко сказать. А ты попробуй! Приглашают на работу, обещают хорошую зарплату, а по приезду отбирают паспорт и заставляют бесплатно вкалывать. И не вырвешься. Это как, не рабство? У кого-то, видимо, сильно накипело на душе. Наверное, успел, бедняга, побывать в передряге.
Спор разгорался. В него втягивались новые голоса. О Тамиле забыли, лишь иногда бросали любопытные взгляды.
Толпа прибывала. Из задних рядов, напирая, «на цыпочках» тянули головы.
− Что там? Что продают?
− Надо быть дураком. Сами виноваты, − не сдавался все тот же голос.
− По телевизору показывали!
Со стороны центрального ряда прилавков рынка к собравшейся толпе приблизилась съемочная группа.
− Местное телевидение! – тонким голосом вещала молоденькая ведущая. За нею на целую голову выше следовал оператор с камерой на плече. – Снимаем сезонные цены на овощи и фрукты. Смотрите нас сегодня в вечерней программе. А чем торгуют здесь? Картошкой? Со своего огорода или с фермерских полей?
− Картошкой, картошкой! Жареной! – смеялся кто-то собственному каламбуру. Его с готовностью поддержала толпа.
− И рабыней из Африки! Для домашнего хозяйства! Спешите приобрести. Единственный экземпляр!
− Заместо кота! Мышей ловить, – сыпались отовсюду остроты.
− Нет, вместо двуногой кошечки! – это был намек на сварливую жену.
Телевизионщики протиснулись внутрь тесного человеческого круга. Оператор навел камеру на негритянку и висевший на ее шее плакат.
− Она и вправду продается? – изумилась ведущая. – И кто же ее хозяин?
− Мы, − ответил Костя. – Я и он, − кивнул в мою сторону.
В этот момент, признаться, мне стало неуютно. Нет, театр, понял я, пусть и импровизированный, не мое призвание. Под десятками еще недавно просто любопытных, а теперь настороженных глаз, спиной почувствовал, как вот-вот что-то должно произойти. И обязательно нехорошее. Шепнул Косте – «давай сматываться», но он или не понял, или отмахнулся.
− И как зовут эту несчастную девочку? – спросила ведущая.
− Тамила.
− И какая же ей цена?
− Сто тысяч долларов, − не моргнул глазом Костя.
Толпа ахнула и замерла. Таких денег никто никогда не видел. И не снилось. Это была заоблачная недосягаемая высь.
Какое-то время длилось тягостное молчание. Потом на чьем-то замершем дыхании послышался тихий, но внятно осуждающий голос:
− Живых людей продают. Дожились. Пока только из Африки. Скоро и к нам доберутся.
− Гнать их в шею! – уже во всю глотку в край возмущенно послышались отдельные злые голоса.
−А девчонку освободить! Пусть идет на все четыре стороны.
И тут, сделавшись вмиг неприязненной, толпа угрожающе стала надвигаться на нас, подступать ближе. Говорил же я Косте, − пора сматываться. Не послушался.
Не ожидая неминуемой неприятной развязки, я сдернул с шеи Тамилы злосчастный плакат, бросил на землю, а ее, ухватив за руку, протащил через живое сомкнутое кольцо, получив в спину несколько увесистых тумаков. Вслед неслись угрожающие крики.
Костю выглядывали на выходе из рынка. У тех самых ажурной ковки металлических ворот. Ждать долго не пришлось.
Посчитали свои потери. Они были невелики – полученные тумаки и оставленный под ногами толпы плакат.
Вечером смотрели себя по телевизору. Запомнилась во весь экран Тамила и ехидные слова ведущей:
− Утерянное имущество хранится в студии.
− Оставьте его себе. На память, − в тон ей ответил Костя.
На первой после выходного дня лекции Тамилы с нами не было. И на второй тоже. Место за нашим столом пустовало. Мы терялись в догадках.
− Бизнесмены! Работорговцы! – со смешками и иронией упражнялся над нами каждый по – своему весь курс, комментируя вчерашнюю вечернюю телепередачу.
После третьей лекции нас вызвали в деканат. В кабинете сидели два темнокожих чопорных иностранца. Стало ясно, они имеют самое прямое отношение к нам и Тамиле. И не ошиблись.
− Ну-с, «герои», − осуждающе блеснули за столом очки декана. – Ваши необдуманные действия привели к международному инциденту. Что прикажете делать с вами? Выгнать из института? Объяснитесь с представителями посольства потерпевшей страны.
И мы стали «объясняться». Точнее, за всех говорил один Костя. У них, то есть у нас, не было и малейшей мысли кому-либо навредить. Они, наоборот, сценкой из «Хижины дяди Тома» хотели напомнить всем, насколько ужасным и противоестественным для человечества является рабство и его проявления в настоящей действительности.
Костя говорил горячо, толково и убедительно. Он водил глазами с декана на представителей посольства, и я заметил, как у чопорных иностранцев вытянулись лица.
− О᾽кей! – сказал один из них. – Мы принимаем извинения.
И, повернувшись, к декану:
− Не надо выгонять из института. Они хорошие ребята. Инцидент будем считать исчерпанным.
Я задал мучивший меня вопрос:
− А Тамила? Где она? Почему ее нет на лекциях?
− Улетела в Англию. Будет учиться там.
− Как! – не удержались Костя и я в рамках учтивой протокольной беседы. – Ей не понравилось у нас? И даже не попрощалась?
− Опаздывала на самолет, − «темнил» представитель иностранной державы.
− Но можно было позвонить. Встретиться в аэропорту, − настаивали мы на своем.
− Светская жизнь королевской семьи имеет определенные ограничения, − сухо последовал уклончивый ответ, и дипломаты, откланявшись, покинули деканат.
− Вот оно, что! − шли мы по длинному коридору института. – И какое же место в этой семье занимает Тамила? – задал я риторический вопрос.
− А ты не догадываешься? – как всегда, уверен в себе был Костя. – Дочь короля! За рядовыми генералы не являются. Значит, принцесса.
− Здорово! – не знал я, верить этому или нет. – Принцесса! Чернокожая принцесса.
Со временем мы стали забывать о Тамиле. Но следующим летом неожиданно получили от нее письмо. Конверт был оклеен экзотическими марками со многими штемпелями.
«Милые мальчики, − начиналось оно, − простите, что не хватило времени попрощаться с вами».
Далее шло описание скучной, с ее слов, университетской и вообще, тамошней жизни. А в конце строк повеяло теплом. «Когда я рассказала папе, дяде Андрею и дяде Саше о нашем спектакле на рынке и упомянула о том, как вас едва не побил разгневанный народ, они так смеялись, что у них, как говорят у вас, «чуть не лопнули животы». Папа сказал, простой народ, а какой свободолюбивый! После окончания института он приглашает вас работать в нашей стране».
Но до этого было еще далеко.
Евгений Рудов
Сообщение отредактировал Evgeniy - Воскресенье, 24 Фев 2013, 14:16 |
| |
|
|
| Ворон | Дата: Воскресенье, 24 Фев 2013, 14:16 | Сообщение # 2 |
 Хранитель форума
Группа: Новый пользователь
Сообщений: 10310
Статус:  | Да, "шутка" чуть не стоила места в университете...Порой необдуманные действия приводят к нежелательным последствиям..
|
| |
|
|
| Evgeniy | Дата: Понедельник, 25 Фев 2013, 19:02 | Сообщение # 3 |
|
Группа: Удаленные
| ФЕКЛА
Село Ивановка осенью сорок второго жило в тревожном ожидании. Где-то на востоке шли ожесточенные бои, и через узловую железнодорожную станцию Штеровка, отстоящую менее чем в часе ходьбы от села, один за другим в ту сторону шли немецкие составы с пушками, танками, крытыми вагонами-теплушками, переполненными солдатами. Немцы рвались к Волге, оставался последний рубеж, последняя черта, за которой одни становились победителями, другие – побежденными.
И вдруг сначала неуверенный, тихий, но вскоре все более крепнущий, нарастающий слушок, набирая силу, покатился от хаты к хате. Селяне только радовались ему.
– Надавали гадам под Сталинградом «по зубам»!
– Окружили армию Паулюса.
– Отлиходейничали. Теперь им скоро наступит капут.
А третьего января уже нового сорок третьего года в селе увидели первых битых завоевателей. Это были румыны. Разгромленные на Волге их воинские части, оставив фронт, разрозненными группками уходили на запад, на свою землю. Им и итальянцам немцы после падения Сталинграда обещали конец войны и возвращение домой. И вот обещанное сбылось, но совсем не так, как это ожидалось.
Фекла, красивая женщина среднего роста, крепкая в плечах баба, рано овдовевшая – муж-инвалид, израненный в боях, рубленый не раз шашкой в Гражданскую, воевавший в конной армии Буденного, успел наплодить с нею троих детей и помер незадолго до войны, и ей одной пришлось тянуть на себе лямку всего своего крестьянского хозяйства, – увидела румын через проталину в заиндевевшем окне. Она придвинула к стеклу губы и стала чаще дышать. Вскоре проталина расширилась, очистилась ото льда и можно было хорошо разглядеть улицу. По припорошенной редким снежком дороге двигались подводы. Фекла насчитала их семь. В каждую было впряжено по паре гнедой масти лошадей, а в добротно скроенных, ладных, выкрашенных в зеленый цвет телегах с насаженными на деревянные со спицами колеса железными ободьями сидели или лежали на подостланной соломе в темно-серых шинелях солдаты. Те, что лежали, догадалась Фекла, были раненые. У одного из таких лежачих из-под шапки выглядывали бинты. За последней телегой, привязанная веревкой, понуро плелась корова.
– Отобрали у кого-то, оставили помирать с голоду, – зло выругалась Фекла.
Колонна остановилась. Телега с коровой оказалась напротив Феклиного и на противоположной стороне улицы двора Клавдии, соседки. Их хаты смотрели друг на друга через дорогу окнами.
Из повозок стали выпрыгивать румыны. Они топали сапогами, хлопали себя по бокам ладонями согнутых в локтях рук, прыгали, пытаясь согреться после долгой езды по морозу, потом стали расходиться по хатам.
Ко двору Феклы в длинной шинели с поднятым воротником, обмотанным вокруг шеи женским платком, направлялся румын. У нее в это время теснились ребятишки, полная хата − так тесно, что негде было упасть яблоку. Трое своих да шестеро чужих, с улицы.
В чугунной сковороде жарилась вылущенная из початков кукуруза. Так жарить кукурузу, знали ребятишки, как делала это тетя Фекла, не мог в селе никто. Она, как ворожка, водила деревянной ложкой по раскаленному днищу сковороды, встряхивала ее, ухватив тряпкой, – не давала залеживаться зернам, отчего они равномерно обжаривались со всех сторон и, как по установленной очереди, вдруг среди них раздавались громкие щелчки – зерна подпрыгивали, раскалывались, увеличиваясь в объеме, выказывая свою внутреннюю белую, как снег, сущность, становились воздушными. Это были «барашки». Вкуснее их ничего не было.
Ребятишки с выпрошенными дома початками всегда бежали к тете Фекле, но та не впускала к себе всех желающих сразу, не вмещала хата, и оставшиеся на улице завидовали счастливчикам. Румын толкнул калитку и шел уже по двору. Фекла отскочила от окна и зашикала на детей.
– А ну, молчком! Не галдеть, позатыкайте рты. Кыш по местам. Усаживайтесь на лавки. И тишина чтобы мне!
В сенях послышалось топанье тяжелой обуви и вместе с морозным воздухом, хлынувшим в открытую дверь, в избу ввалился румынский солдат. Он обвел внутренность избы глазами, уставился на чинно рассевшихся ребятишек и удивленно, коверкая русскую речь, спросил:
– Матка, матка, твой киндер?
– Мои, мои. Все мои, – расставила Фекла руки, пытаясь заслонить ими детей, как наседка, укрывающая крыльями выводок при виде опасности.
Румын весело осклабился, демонстрируя полный рот крепких белых зубов. Ехидной улыбкой он показывал, что ни на грош не верит Фекле, но, если той так хочется, пусть считает, что он ей поверил.
Почувствовав запах жареной кукурузы, он потянул носом и повернулся к печи. Отставленная с жару сковородка стояла на краю кирпичной кладки. Румын протянул руку, взял с нее несколько «барашков» и сунул в рот. Раздался знакомый ребятишкам хруст, и они завистливыми глазами уставились на жующего солдата. Кукуруза тому пришлась по вкусу, и он стал хапать ее жменями и рассовывать по карманам. Зерна падали на пол, закатывались под стол, лавки, койку.
Когда за румыном закрылась дверь, дети, не сговариваясь, бросились подбирать оброненные зерна.
– А теперь по домам, – приказала Фекла. – Пока румыны не уберутся из села, никакой кукурузы. Ишь, гад, всю сковороду выгреб.
Когда дети разошлись, Фекла, цыкнув на своих, чтобы сидели тихо, вновь приникла к окну.
Остановившиеся на ночлег румыны отворили обе половины широких ворот Клавдиного подворья, завели в него телегу, выпрягли лошадей. Отвязанную корову подвели к вырытому, уходящему под землю наклонному подвалу. Такие подвалы были в каждом дворе. В них зимой хранился собранный урожай, заготовленные соленья, а летом в жару там было прохладно, стоял для питья квас, прятали крынки с молоком, сметану.
На возвышающуюся над землей в рост человека каменную кладку верхней части подвала с плотно закрывающейся деревянной дверью опиралась толстая жердина и тянулась к хате, где другим концом цеплялась за торчащий из стены железный крюк. На этой жердине Клавдия летом вывешивала для просушки одежду, спальные матрацы, плетеные из соломы маты.
Корову приткнули головой к кладке и крепко притянули за рога веревкой к выступающему массивному камню. Обреченное животное покорно ожидало своей участи.
Фекла видела, как один из румын, словно чего-то выискивая, пошарил рукой в короткой шерсти плоского коровьего лба и вдруг, откинувшись назад, резко и сильно воткнул в него, как показалось ей, штык от винтовки. Корова тут же осела на ноги и завалилась на бок. Ей перерезали горло и в хозяйский медный таз слили горячую, темную до черноты кровь.
Фекла не отрывалась от окна. Улица была неширокая, соседский забор невысок, и она видела все, что происходило во дворе Клавдии. Тот же румын, который заколол корову, надрезал ей ниже колен шкуру задних ног, проткнул сухожилия заостренной палкой, обхватил это место крепким узлом веревки и перекинул другой ее конец через жердину. Одни румыны приподнимали с земли тушу, другие тянули веревку.
Корова висела вниз головой, неестественно растопырив в стороны передние копыта, почти касаясь еще теплыми, толстыми губами окропленного под ней брызгами крови, затоптанного ногами солдат грязного снега.
Через час все было кончено. К отделенной коровьей голове добавилась снятая, посыпанная солью шкура. Из хаты румыны вынесли сдернутое с койки хозяйское одеяло, расстелили на земле и опустили на него красную с белыми прожилками жира, освежеванную тушу. Разрезали брюхо, вывалили внутренности. Коровье сердце, печень, почки, легкие − вырезали, промыли желудок и кишки, со знанием дела разделили тушу на бедра и подбедерки, отделили кострец, оковалок, грудинку, лопатки, шею, голяшки и все мясо вместе с ливером, ободранной и обработанной головой уложили в деревянный ящик, который всем скопом подняли и установили поперек телеги, на то место, где сидит возничий, и закрыли крышкой. Фекла была удивлена – румыны не взяли себе и кусочка свеженины на ужин. Последнее, что она видела, солдаты вошли в хату, прихватив с собою тазик с кровью. «Будут жарить», – догадалась она.
Зимние дни коротки. День, казалось, только начался, а на дворе уже темнело. Низкое свинцовое небо к вечеру разразилось мокрой крупой. Она шелестела по стеклам окон Феклиной хаты, оставляя на них талые слезы, укрывала землю.
Фекла сварила детям кукурузной каши, поела сама (добавить бы сюда топленого коровьего жира, да по кусочку мяса!) и уложила их в койки. Долго и бесцельно ходила по хате. Умаявшись, не раздеваясь, прилегла и сама. Закрыла глаза. Лежала долго. Но сна не было.
Раньше, бывало, наработавшись за день в поле, управившись дома по хозяйству, едва добиралась до койки и тут же падала в нее, засыпала. Теперь же сон не шел, она ощущала в себе потребность чем-то заняться, что-то делать, взяться за какую-то работу. Но какую? В чем она заключалась? И голодный желудок подсказал ей.
Поднявшись с постели, не зажигая свечки, Фекла глянула в окно. Темень, ничего не видно. Как будто на глаза ей надели шоры. Заглянула в койки, в них, посапывая, спали дети. Часы-кукушка пробили два раза – третий час ночи. Шел уже четвертый день нового года.
Фекла вышла в прихожую, сунула ноги в валенки, обмотала снизу старыми тряпками, крепко завязала концы. Оделась в теплую кацавейку, на голову накинула пуховый платок. Тихо прикрыла за собой дверь.
Луны не было, но ночь вызвездила, и сразу дал знать о себе январский морозец, он острыми иголочками впился в ее нос и щеки. Крупа уже не сыпалась с неба, а нападавшая вечером начисто смерзлась и превратилась в сплошной ледок.
Фекла подошла к своей калитке и оглядела улицу. Нигде не было видно и огонька. Село спало. Окна Клавдиевой хаты смотрели на нее темными квадратами стекол. Она постояла, помедлила, вышла на середину улицы, вновь оглянулась влево, вправо – ни души, и решительно направилась к соседке. Из темноты ночи вынырнула чужая калитка, и Фекла вошла во двор Клавдии. Привязанные кони повернули к ней головы, поедая из подвешенных на шеи холщовых сумок насыпанный им на ночь овес. Рядом с лошадьми, с опущенным на землю дышлом, стояла выпряженная телега, и на ней – у Феклы тревожно затрепыхалось сердце, она скорее ощутила, чем увидела – стоял тот самый заветный ящик.
– Ну, как часовой увидит! – ужаснулась она.
Но Фекла не знала и не могла знать, что часовой каких-то полчаса назад, околев на морозе, зашел в хату погреться, приткнулся на лавке спиной к остывающей печи и разморенный ее теплом под храп спящих солдат, не выпуская из рук винтовки, приставив ее прикладом на пол и обхватив обеими руками, склонил голову и спал. Ему снился дивный сон – родной дом, жена, дети и цветущие золотом в огороде подсолнухи.
Фекла подступила к ящику и осторожно, стараясь не шуметь, сдвинула с него крышку. Протянула руку – ящик был полон мяса. Румыны приготовили его в дорогу, ехать было далеко.
Она попробовала вытащить один-два, сколько получится, кусков мяса, но теплое, парное, оно за ночь схватилось на морозе в один сплошной ком и не поддавалось ее усилиям, она не могла оторвать от него ни кусочка, не хватало сил. Бить по мясу, колотить по нему чем-либо было опасно, наделает шуму – проснутся румыны, но и уходить с пустыми руками, несолоно хлебавши, ничего не прихватив с собой, было выше ее сил. Она соображала. Недолго. Надо было торопиться, и Фекла побежала домой.
В сарае нашла веревку, ею она выводила на лужок бычка на выпас, вбивала
в землю кол, привязывала скотину. Бычок давно вырос, его уже не было в живых, съели, а веревка осталась. Фекла отхватила от нее два куска метра по три и так же быстренько вернулась назад. Действия ее были просты и скоры. Обмотала веревками, как кольцами, оба края ящика, стянула концы крепкими узлами, повернулась к ящику спиной, просунула в образовавшиеся петли, как в лямки заплечной сумы, руки, согнулась, потянула ящик на себя и взвалила на плечи... – О-ох! – у Феклы потемнело в глазах.
Уложенная в деревянный короб зарезанная корова была неимоверно тяжела, давила так, что, казалось, Феклины ноги сейчас уйдут под ней в почву и увязнут в земле. Веревки резали плечи, трещали собственные, а не коровьи кости. Фекле не хватало сил, и она уже было решила оставить все, как есть, бросить эту опасную затею и повернуть домой, но появившееся в ней противоборство заставило ее сделать первый шаг.
Оторвав прислоненную спину от передка телеги, Фекла покачнулась, но устояла. За первым и самым трудным шагом последовал второй, третий, и вот уже, согнувшись в три погибели, подталкиваемая тяжелой ношей Фекла очутилась за Клавдиевой хатой в самом конце огорода и по тропке, по тропке, короткими скрюченными шажками семенила дальше по межам соседей позади хат.
Фекла не останавливалась, боялась, если остановится – не удержит ящик, уронит, а с земли ей его уже не поднять, и она шла, шла, сцепив зубы, претерпевая в себе невероятное напряжение и боль в мускулах.
Улица окончилась, за ней началась другая. Фекла шла по задворкам. Она знала здесь каждый куст, каждое дерево, пустырь, все было знакомо издавна, с детства, и ей не было никакой нужды присматриваться к местности, она и в темноте верно определяла нужное ей направление, могла бы идти и с закрытыми глазами. Иногда попадала в мелкое углубление – лунку от выкопанной картошки, но и тогда, опасно покачнувшись, она удерживала ношу, быстро перераспределяла тяжесть на плечах и успевала выставить ногу.
Кончились задворки и этой улицы, за ней – короткий переулочек. Повсюду темно, тихо, ни огонька, ни звука – ночь. Осталось немного, совсем чуть-чуть, спуститься в узкую и неглубокую балочку, подняться по ее склону вверх, а там уже и дом матери, конец Феклиного пути. Но эти чуть-чуть были самыми трудными. У Феклы подкашивались ноги, задеревенела спина, нарезанные веревками плечи отзывались жгучей, невыносимой болью.
Она спустилась в балочку, ноша сама затолкала ее на дно низины, но подняться, выбраться наверх, чувствовала, у нее уже не хватит сил. Кое-как подобралась к знакомому колодцу, из которого вся здешняя половина села черпала воду, повернулась к срубу спиной и ослабила мучавшее ее телесное напряжение. Тяжеленный ящик, как будто этого и ожидал, тут же стукнулся днищем о закрытую ляду колодца, потянул своим весом за собой и Феклу, и она, совсем обессилевшая, повисла плечами на веревках.
И смех, и грех. Ноги её отъехали от сруба, вытянулись на заснеженной, заледенелой земле, спина прижалась к бревнам, а сама она, удерживаемая веревками, оказалась подвешенной на них в воздухе. Фекла пыталась высвободить руки из лямок, но это долго не удавалось, надо было сначала подтянуть ноги, приподняться на них, но валенки скользили по образовавшемуся за ночь ледку, и она беспомощно барахталась, а когда все же ей это удалось – шлепнулась задницей на землю и вдруг, сама не зная чему, рассмеялась.
Она не спешила подниматься. Приходила в себя. Тело охватила приятная легкость. Онемевшие, перетруженные за дорогу мускулы теперь оживали в ней, наполнялись новой силой, распирали изнутри. Ей казалось, что она растет, увеличивается в объеме и, наверное, этим и был вызван ее беспричинный облегчающий душу смех. Оставила лежать на ляде ящик и поднялась из балочки на гору. До нужной ей хаты было рукой подать.
На стук в дверь отозвался сонный, испуганный голос.
– Хто там?
– Це я, мамо. Видчинить, – нетерпеливо переминалась с ноги на ногу Фекла. Она торопилась, ночь подходила к концу, а в селе поднимались рано.
– Що за лыхо? – спросила, тревожась, мать. С коек повскакивали Феклины сестры, младшие. Щелкнули запоры, откинулись крючки.
Керосиновую лампу не зажигали. Сидели в темноте, как заговорщицы.
Тащить ящик вчетвером – мать, Фекла и две её сестры – было легко, не то, что одной. Подхватив веревку у своего угла, Фекла торопила всех.
– Ну ж бо, ну ж бо.
На горку из балочки не вышли, а вылетели. Неведомая ранее сила страха (ну, как увидят!) толкала в спину.
Вот и калитка. Ношу затащили в сарай. Разбили обухом топора смерзшееся мясо, сложили в дальний угол, завалили дровами и всяким хламом. Ящик растрощили тем же топором, занесли в хату и сожгли в печке.
Серое, низкое, мглистое январское небо посветлело. Хотя и поздно, но рассвело. Из труб изб выпорхнули первые грязно-белые клубы дыма.
Фекла тоже растопила печь, а сама нет-нет да и выглянет в заиндевевшее окно – что там, напротив ее дома, на Клавдиевом подворье. Но там ничего особенного не происходило, и снедаемая жадным любопытством Фекла не вытерпела, побежала к соседке.
По двору метались озабоченные румыны. Они никак не могли понять, куда девалась зарезанная корова. Тяжеленный ящик с мясом будто унесло ветром, и никаких следов, а после дневной слякоти ночной мороз сковал землю, не оставив вокруг телеги даже слабых отпечатков чьих-либо подошв.
На пороге избы, накинув на плечи длинный пуховый платок, стояла Клавдия. Фекла подошла к ней.
– Що цэ воны шукають, – кивнула на румын. – Загубылы щось, чи йихаты збыраються?
– Ага, йихаты, – саркастически ответила соседка. – Мясо у них уперли. Подчистую, всю корову. В дорогу приготовили. Только и того, что жареной кровью поужинали.
– Бачь, яке дило! – деланно вскинула брови Фекла, – и хто ж цэ зробыв?
Соседка подозрительно посмотрела в ее сторону.
– А не ты ли это сделала?
– Що ты, що ты! – и вправду испугавшись, замахала руками Фекла. – Та бог з тобою, куды мэни одной, як ты кажешь, упэрты цилу корову.
– С колхозных полей не один мешок добра утащила. Думаешь, не знаю! Пан, а пан, – позвала Клавдия румына. – Это она уперла мясо, ей бо она, больше некому.
Вокруг женщин собрались румыны. Один из них, старший, спросил Феклу:
– А муж у тебя есть?
– Нету у нее мужика, – ответила за Феклу Клавдия. – Давно помер, еще до войны.
И тогда румыны стали громко смеяться. Они не верили хозяйке дома. Куда этой хоть и рослой, но худой, с обвислыми руками бабе, оглядывали они Феклу, утащить на себе корову. Они сами в несколько рук с потугами подняли на телегу ящик с мясом.
Выскребая со сковородки крохи оставшейся с вечера жареной крови, румыны позавтракали ею, а затем запрягли лошадей и двинулись из села.
* * *
Через несколько дней в канун Рождества Христова Фекла снова увидела румын. По улице через село вновь двигались такие же зеленые, добротные, запряженные лошадьми повозки. В них точно также сидели или лежали отступающие солдаты. Вид их был совсем не воинственный, а усталый и безразличный.
Фекла насчитала десяток телег. К одной из них был пристегнут ржавой масти маштак, низкорослая, необъезженная молодая лошадка. С тонкими, грациозно ступающими по мерзлой земле ногами она выглядела стройной и красивой. Темная не отросшая еще грива топорщилась на вытянутой шее, а крупные с выдававшимися белками глаза косили по сторонам.
Румыны остановились недалеко от Феклиного двора, заставили повозками правую сторону улицы, а выпряженных лошадей привязали к коновязи – длинному бревну, лежавшему на двух невысоких, вкопанных в землю столбиках. Коновязь служила когда-то сельским коням. В доме напротив до войны располагалось колхозное правление. Сейчас оно пустовало.
В самый глухой час ночи Фекла поднялась с койки. Оделась. В голове еще с вечера вызрел план. Прихватив нож, плеть и кусок веревки, тихо, чтобы не разбудить детей, притворила за собой дверь.
Пощипывал мороз. Небо проглядывало звездами, освещая холодную землю, но ночь от этого не казалась светлее. Село будто растворилось в густом тумане, поглотившем избы, пристройки, сараи, оставив только напоминания о них – неясные, расплывчатые тут и там контуры.
Фекла подобралась к коновязи, пообрезала обротьки, пугнула освободившихся лошадей, награждая их плетью. Кони разбежались, а она, накинув петлю на шею маштака, – у того не было еще недоуздка, повела за собой.
Поторапливалась, оборачивалась назад, оглядывалась, чутко прислушиваясь к ночным звукам. Особого страха не было. Свои, если и видели, не посмеют донести, все одно станет известно – как им потом жить в селе, а румын она не очень боялась, бросит маштака, свернет в любой двор, а через него на задворки и в перелесок. Ищи-свищи ветра в поле.
В конце улицы у края заросшей балочки толкнула калитку своего родича дяди Степана. Маштак покорно вошел с ней во двор. Тихо постучала в окно. Ждала. В хате, видно, не торопились, но вот, наконец, там зажгли керосиновую лампу, и тусклый свет слабой желтизной окрасил маленькое квадратное оконце.
– Хто? – услышала Фекла глухой голос. Приникла к заиндевевшему окну и быстро-быстро заговорила.
– Дядю Степан, дядю Степан, цэ я, Фекла.
Скрипнула дверь, и из хаты вышел одетый по-зимнему дядя Степан.
– Нихто нэ бачив? – спросил обеспокоенный он после того, как Фекла рассказала ему о краже.
– Ни, нихто.
Маштака завели в сарай. Там было пусто, но из ясель пахло остатками сена, а с полу несло застарелым коровьим навозом.
– Що ж будэмо з нею робыты? – кивнул он на молодую лошадь. – Якщо залышыты, то чим годувати?
Жена Степана побежала за его братом. Тот пришел со своей жинкой. Стали совещаться.
– У мэнэ тэж сина нема. А в кого воно е? Скотыну поризалы, або нимци повидибралы. Так навищо було косыты?
Маштаку веревкой стянули копыта, свалили на пол, уселись сверху, и Степан перерезал лошадке горло. Она сучила ногами, брыкалась, задирала голову с выпученными глазами, но подняться не могла.
Женщины нагрели в хате воды, притащили в сарай тазы, ведра, корыто и стали промывать еще не остывшие, выпотрошенные конские внутренности. Потом принялись набивать кишки кусочками нарезанного мяса. Перевязанные толстыми нитками длинные колбаски скручивали в спиральки и откладывали в сторону...
Утром ошеломленные румыны ловили по всему селу разбежавшихся лошадей. Напуганные ночью кони шарахались от своих хозяев, не давались в руки. Двоих-таки, кроме маштака, румыны не досчитались. Солдаты ходили по дворам, высматривали, расспрашивали.
– Wer hat diese tun?
– Это партизаны, – отвечали им.
– Partisanen?
– Партизаны, – кивали селяне. – Точно партизаны. Кто же еще мог это сделать? Кроме партизан, некому.
Одного этого слова было достаточно, чтобы румыны прекратили поиски пропавших лошадей. Они быстренько собрались и убрались из села.
Как напоминание о ретировавшихся завоевателях на Феклиной улице осталась одна брошенная телега. Ей не хватило тягловой силы. После войны эту добротную повозку зачислили в колхозный инвентарь, и она долго служила колхозу.
______________
Wer hat diese tun? (нем.) – Кто это сделал?
Partisanen? (нем.) – Партизаны?
|
| |
|
|
| Ворон | Дата: Вторник, 26 Фев 2013, 13:36 | Сообщение # 4 |
 Хранитель форума
Группа: Новый пользователь
Сообщений: 10310
Статус:  | Да, румыны чересчур уж себя "хозяевами" чувствовали... Народ голодает, а они последнее готовы забрать.. Молодец Фёкла, не испугалась.. Теперь хоть с голоду не будут в деревне страдать, пусть и не так долго...
|
| |
|
|
| Evgeniy | Дата: Среда, 27 Фев 2013, 14:55 | Сообщение # 5 |
|
Группа: Удаленные
| САМОРОДОК
Глава 1
Сибирский мужик Мишка Беспалый для счастливой жизни имел все – просторную избу, сложенную из смолистых сосновых бревен, нижний ряд которых начинался венцом из крепкой, неподверженной гниению красноватой древесины лиственницы, жену, пышущую здоровьем сибирячку, двух сыновей, в сезон − работу на прииске, зимой промышлял охотой.
На западе шла жестокая война. Земля там была разорена и выжжена, и хотя немцу намяли бока, и выглядел он уже не таким бравым и самоуверенным, но был еще силен и зло огрызался, как раненый медведь. С таким зверем надо быть осторожным. Мишка знал это не из чужих слов. Не убил первой пулей, сплоховал, держись теперь. Остались считанные секунды, а то и того меньше. Успеешь переломить ружье, выбросить пустую гильзу, дослать в патронник новый заряд, вскинуть ствол, целиться уже не надо – разъяренный зверь у кончика твоего дула, и выстрелить − твое счастье, будешь жить, нет – тогда поминай, как звали.
Голода в войну Мишкина семья не знала, как и все на прииске. Тайга была щедрой к людям, только не ленись. Бочонок-два соленых груздей на зиму, хрустящих как свежие огурчики, вязки сушеных грибов, брусника, клюква, соленый и копченый хариус, под осень – рябчики, по первому снегу выследит сохатого, заприметит лежку медведя.
Страна напрягалась из последних сил. На прииск приходили похоронки, но Мишке улыбалось счастье. Его сыновья были живы. Он регулярно получал от них письма, − сложенные треугольником листки бумаги. Служили сыновья на Дальнем востоке где-то на границе с Китаем. Писали мало и осторожно, намеками, но Мишка был понятлив, догадывался – выжидают, стерегут границу. Войны с японцем пока нет, но и мира – тоже. И на том, слава богу.
На прииске одна половина дворов звалась Беспалыми, другая – Безрукими. Такая родословная неурядица повелась со времен, когда на реке Удерей нашли первое золото. Это было в самом начале девятнадцатого века. Заворачивали золотыми делами в этих местах купцы Рязанов и Мясников. Это их приказчики, наверное, в шутку, в разросшихся селах юга Сибири набрали только две фамилии потомков первопроходцев из европейской части России и завезли их вместе с семьями на прииск. Так и пошли плодиться и размножаться людишки в этих северных краях.
От такого множественного родства шли одни неудобства. Поди-ка, разберись, кто есть кто, особенно если речь заходила об отсутствующих. И тогда к имени стали прибавлять кличку − Ванька Косой, Ефим Козлятник, Никита Цыган и прочие. Клички были метким отображением наружности, деятельности или характера человека и приставали к нему намертво, как гербовая печать к казенной бумаге. Не отдерешь.
Передавались они по наследству от отца к сыну, а потому и Мишка Беспалый унаследовал свою и стал Мишкой Вязнем. У него были короткие толстые ноги, словно для долгой и тяжелой стоячей работы. Увязнет в ней, не оторвется, пока не завершит.
Теплилась у Вязня своя, можно сказать, потаенная мечта. О ней он никому не говорил, даже жене, боялся вспугнуть преследовавшее его и во сне видение – будто бы найденный им золотой самородок.
В сезон Мишка работал на драге стакером, следил за натянутой резиновой лентой, по которой транспортировались и сбрасывались в отвал хвосты − промытая пустая порода.
Вокруг скрежетало железо, громыхала в барабане, перекатываясь по крутым стенкам, перерабатываемая горная масса, двигаясь сплошным потоком по драге, просыпалась в щели и стыки галечного лотка, и нужно было не зевать, глядеть в оба, подбирать лопатой и бросать в конвейер.
Весь день Вязень проводил на ногах, не уставал, успевал все и краешком глаза следил за камнями на ленте, особенно со следами молочного кварца, авось среди них металлической желтизной мелькнет золотой самородок и тогда…
«И что тогда? – вкрадчиво шептал глухой потаенный голос. − И вообще, зачем тебе самородок? Что будешь делать с ним? Утаишь? А дальше? Далеко не унесешь и не увезешь, и кому сдашь? Поймают – засудят, и кончишь остаток жизни в тюрьме».
От такой мрачной перспективы по спине Вязня бежали мурашки.
« Нет, − отвечал он голосу. − Никуда самородок я не повезу и прятать не стану. Сдам Люське, приемщице, обменяю на боны».
« Ты что, голоден? Если найдешь, придержи-ка лучше золотишко про запас до возвращения сыновей. Вот тогда и сдашь».
− Фу ты, окаянный, − уже вслух ругался Мишка, отирая рукавом выступившую на лбу испарину, а у самого тряслись руки. − И привидится же такое!
Но мысль о самородке кружила голову. Зимой она притуплялась. Оно и понятно, застывшая на морозе, обледеневшая драга, намытые за многие годы ею отвалы, тянувшиеся широкими насыпями на десятки километров, местами разровненные сверху бульдозерами и приспособленные под дороги, все укрывалось толстым слоем снега. А с приходом весны вновь вселялась надежда. И так повторялось из года в год.
Люська, приемщица металла (никто здесь не называл золото – золотом; металл – и точка!) за намытый старателями в таежных речках золотой песок и найденные самородки (редкие случаи, да и сами самородочки по весу не превышали десяти – пятнадцати граммов. Разве можно было сравнить их с найденным на Урале в Миасской долине в 1842 году мастеровым завода Сюткиным слитком золота в два пуда семь фунтов и девяносто два золотника!), рассчитывалась бонами. На прииске это были весомые деньги, потяжелее рублей. За боны в спецмагазине можно было приобрести все или почти все, чего не было в обычном. Например, хорошее охотничье ружье. А что для таежного охотника могло быть важнее!
Доставшаяся Мишке от отца одноствольная бескурковка выглядела совсем старушкой – потускневший от времени вороненный ствол, в глубоких царапинах ореховое ложе, расколовшееся, стянутое проволочными скрутками цевье, разболтавшаяся антабка и потрепанный, обшарпанный для носки ружья ремень.
Мишке хотелось иметь двустволку. На крупного зверя с ней надежнее.
Он заходил иногда в тот самый спецмагазин и с благоговейным трепетом разглядывал висевшие на стене за спиной продавщицы новенькие ружья.
Это были охотничьи гладкостволки Тульского и Ижевского заводов со стволами в горизонтальной и вертикальной плоскостях, курковые и бескурковые, с дульным сужением «чок» или «получок» для кучности стрельбы картечью или дробью.
Ружей было немного. Среди них особо выделялось одно – с впечатляющей инкрустацией колодки горизонтальная двустволка немецкой фирмы Зауэр.
От дошлых охотников Мишка слышал, что если заглянуть на свет в ее стволы, то можно увидеть в них кольца. Это был секрет точного и дальнего боя ружей этой фирмы.
Стволы Зауэра изготавливались кручеными, навивались спиралью в трубки из полосы дамасской стали и так, чтобы один их край прилегал к другому. Этих полос могло быть три и даже больше. Отсюда и пошло – Зауэр три кольца, Зауэр пять колец.
После навивки скрученные полосы нагревались до красного каления и соединялись кузнечной сваркой. Заготовленные стволы обтачивались снаружи, а внутри сверлился и полировался канал.
Действительно ли можно было в зеркале канала увидеть следы витых колец, Мишка не знал, он никогда не держал в руках Зауэра.
Уходил из магазина всякий раз расстроенный. Близок локоть, да не укусишь. Одна надежда на самородок.
И он нашел его. Произошло это совсем обыденно. Никаких предчувствий в этот день у него не было.
Подобрав очередную лопату просыпавшейся породы, Мишка увидел, как в воздухе среди брошенных им на ленту камней ударил в глаза желтый блеск. Сначала он не придал этому никакого значения. Это мог отразиться яркий луч солнца от окатанного, отшлифованного водой песчаника, но в следующую секунду резанула мысль – лопата, теперь уже запоздало определил он, показалась ему тяжелее, чем обычно. Вес ей, по всей вероятности, придавал самородок. Бутылка из−под шампанского, это знал весь прииск, наполненная золотым песком, весила один пуд.
«Неужели это был Он? − оцепенел Мишка. − Лежал у моих ног!»
Колотилось сердце, провожая глазами бегущую мимо горную массу. Пытался разглядеть выброшенный им сдуру самородок, но, сколько ни присматривался, ничего не увидел. Самородок, если это и был он, затерялся среди камней. Хотел броситься за ним прямо по ленте, но передумал. Сразу поймут, что ищет. И даже если он ничего не найдет или это окажется не самородок, а всего лишь насыщенный золотистыми зернами пирита кварц или сланец, ему не поверят. Заподозрят, затаскают в комендатуру. А там комендант в фуражке с синим верхом и красным околышем долго чикаться не станет. Время военное.
Голова вспухла от мыслей. Надо было решать. Быстро. Драга неторопливо двигалась по руслу реки, оставляя на берегу отвалы.
− Засыплет самородок, определенно засыплет. Надо запомнить место, куда он вывалится, − лихорадочно соображал Мишка.
Май по-сибирски стоял прохладный. В низинах в тени деревьев лежал последний почерневший и осевший снег, по руслу реки тянул стылый, холодный еще низовик, но Мишка сдернул с головы шапку и бросил на ленту. Потертая, с завязанными наверху для ушей клапанами она неестественно выглядела среди камней и не спеша двигалась вместе с ними. Еще немного и свалится в отвал. Это будет метка, где ему следует искать самородок. Без шапки и привязаться глазом не к чему. Кругом, как близнецы, одни сосны.
Остаток дня Мишка провел как пьяный. Несколько раз к нему подходил помощник драгера, чего-то спрашивал, он отвечал, но о чем был разговор, тут же забывал. Все мысли были там, у отвала. Найдет он самородок или нет? А если его засыпало?
− Не должно бы, − успокаивал себя и продолжал подбирать лопатой просыпавшуюся на мостки породу.
Случалось, крупные камни падали на нижнее полотно ленты, и их затаскивало под барабан. Он тяжело подавался, сжимая две мощные витые пружины, отодвигался и, пропустив под собой увесистый голыш, сильным хлопком так, что лихорадочно вздрагивала вся металлическая конструкция стакера, возвращался на место. Если лента рвалась, нужно было тут же «вырубить» двигатель.
После рынды, обозначившей полдень, Мишка стал часто заглядывать в небо. Когда же закатится это чертово солнце? Скорее бы уже закончился день. Его неудержимо тянуло к отвалу.
Так был самородок или нет? Полной уверенности у него не было. Тяжелая лопата, желтый блеск – все это могло и привидеться. Но сны! Часто приходившие ему одни и те же сны, разве хотя бы раз в жизни они не сбываются?
После захода солнца сразу похолодало, и начала мерзнуть непокрытая голова. Тайга помрачнела, стала неприветливой.
Сиплый свисток локомобиля оповестил окончание рабочего дня. Еще какое-то время по инерции с грохотом крутился промывочный барабан, перекатывая на круглых боках остатки в нем горной массы и выплевывая ее на транспортерную ленту, и вдруг все стихло. Наступила тишина, всегда ожидаемая и такая неожиданная. В ушах долго не проходил звон.
Мишка намеренно медленно и долго возился с уборкой своего рабочего места, тщательно выметая со всех уголков забившиеся в щели камешки, выжидая, когда все уйдут, и только под звук топающих сапог прохаживающихся по палубе двоих из взвода комендантской охраны солдат с карабинами оставил опустевшую от работяг драгу.
Сердце екнуло и заколотилось, когда он даже в темноте различил Его среди серых наваленных камней. Самородок лежал возле Мишкиной шапки, или, наоборот, шапка лежала рядом с ним. Это было неслыханное везение. Не нужно было ворошить отвал, копаться в нем до полуночи. А еще, если услышат шум солдаты и откроют стрельбу? Тогда как?
Мишка сунул самородок в суконную сумку, в которой хранил снедь, собранную женой на обед. Сейчас сумка была пуста, все съедено за день, и выглядела она вялой и сморщенной. Но когда он опустил в нее тяжелый самородок, морщины сумки выправились, разгладились, она вытянулась, и ее узкие пришитые лямки врезались ему в ладонь.
− Нет, так не пойдет,− подумал он.− Увидит кто, спросит, что несу. Народ нынче глазастый, все примечает – с работы иду, нести бы, вроде, нечего. А если встретится сам комендант!
И Мишка сунул слиток за пазуху. Пришлось расстегнуть две верхние пуговицы, чтобы засунуть туда. Но и там он, оттопыривая ватник, выдавал себя.
До самого дома Мишке никто не встретился, некому было спросить, что прячет он за пазухой. Увидев свой двор, облегченно вздохнул.
Но тут перед ним встала другая проблема. Где хранить слиток? Жене он не собирался что-либо говорить. Волос длинный, да ум короток. Нахвалится своей подруге, пусть и нышком, а та перескажет своей, и так по цепочке весь прииск узнает о найденном самородке. И в хату его не занесешь. Найдет ненароком. В сарае – коза и куры, хозяйство какое ни есть. Как не быть ей там? Засунуть в поленницу? Выложенную кладку дров нарушишь, видать с улицы будет. Сразу поймут, кто-то с умыслом трогал, значит, запрятано там что-то.
Голова пухла. Так ничего не придумав, Мишка открыл калитку и вошел во двор. Гремя цепью, навстречу хозяину радостно бросился пес.
И тут его осенила мысль. Собачья будка! Лучшего места не найти. Жена в нее не полезет, зачем ей это, а чужой человек, если ему придет в голову такая блажь, поостережется острых клыков дворняги.
Отталкивая ластившегося к нему пса, Мишка присел у собачьего лаза, просунул внутрь будки руку. Солома едва покрывала пол и была вытоптана так, что превратилась в труху. Самородок не спрячешь.
Он выгреб из конуры весь мусор, принес из сарая охапку пахнущего сенокосом прошлогоднего сена и затолкал в будку. Настороженно оглянулся. Прииск окутала темнота, навалилась она и на его двор. И только пробивавшийся сквозь стекла окон свет тускло высвечивал у самого дома узкую полоску земли.
Когда Мишка вытащил из-за пазухи самородок, пес, решив, что хозяин принес ему угощение, бросился обнюхивать. Успел даже лизнуть языком.
Мишка отодвинул пса, затолкал слиток в дальний угол, привалил сеном, уплотнил ладонью. Поднялся на ноги.
Пес тут же бросился в конуру, но никаких запахов не учуяв, выбрался наружу.
− Дурак. Понимать надо, − назидательно сказал ему Мишка и ушел в дом.
Тяжесть ожидания находки, последовавший за ней эмоциональный взрыв и страх разоблачения, мучительные поиски места захоронения найденного сокровища, все это, наконец, как гора с плеч, свалилось с Мишкиных плеч. На душе стало легко и спокойно. Но он не знал и не предполагал, какие передряги ждут его впереди.
Глава 2
Тайгу обложили дождевые тучи. Черные, мрачные, они захватили небо и низко нависли над прииском. День превратился в вечер. За ослепительным разрядом молнии совсем близко, чуть ли не над самыми крышами домов, последовал резкий раздирающий звук грозы.
Пес в страхе заскочил в будку, улегшись на мягкое душистое сено. Крупные частые капли с неба барабанили над его головой, заливали двор, превращаясь в лужи.
Лежать в конуре было не совсем удобно. Что-то твердое и острое давило в бок, мешало вытянуться во всю собачью длину.
Пес повел мордой в ту сторону, но ничего не увидел. Оно скрывалось под сеном. Тогда, развернувшись, сколько мог в тесноте, передними лапами он разгреб сено. Оттуда выкатился самородок и попал под чувствительную кожу брюха. Это было уже совсем ни к чему. Невозможно было улечься, как следует. И пес вытолкал его вон.
Самородок спрыгнул с невысокого порожка конуры, прокатился по земле и очутился в луже, наполовину утонув в ней.
Жена Мишки Варвара вышла из хаты. Дождь кончился. Он был короткий, но обильный. Тучи пронесло и выглянуло солнце, и тут же на зеленой хвое и листьях берез засияли осевшие капли.
Варвара прошла по двору и остановилась у собачьей будки. Из середины лужи выглядывало что-то желтое и блестело на солнце. Поначалу это не вызвало у Варвары никаких ассоциаций и она просто из любопытства ткнула носком короткого женского сапога. Сквозь мягкую оболочку почувствовала тяжелый твердый комок, ушибив ногу. Присев, протянула руку.
С недоверием и страхом разглядывала поднятый золотой слиток. Откуда он? Как попал сюда? Не с неба же свалился!
Первой пришедшей мыслью было – подкинули! Не иначе, на ее семью кто-то имел «глаз». Сейчас явятся и арестуют. Испуганно оглянулась. За двором − никого.
Следующей мыслью явилось нетерпение поскорее избавиться от находки, выбросить, пока никто не увидел у нее в руках. Перекинуть через забор, на улицу. Пусть кто-то подберет, только бы подальше от греха.
Вместо этого Варвара, засунув самородок под полу накинутого сверху пиджачка, прижала его к животу, обхватив руками и скрывая от чужих глаз, заспешила в дом. Здесь ее уже никто не мог видеть, и она могла успокоиться, но чувство страха не уходило.
Таясь, в щель между занавесками выглянула в окно – не идет ли кто во двор? Но улица была пустынна, мужики на работе, бабы в своих хозяйствах.
Не доверяя, как ей казалось, обманчивой тишине – сейчас никого, а через минуту постучат в дверь и начнут обыскивать, Варвара завернула слиток в попавшую наспех под руки косынку, которой покрывала голову, и побежала в сарай.
− М-е-е, − встретила хозяйку коза.
Положила слиток в ясли, присыпала сеном. Этого Варваре показалось мало, и она притащила из сеновала целую охапку.
− Ешь, Манька, ешь, − разговаривала с козой, поглаживая по спине животное. – Никого не подпускай к себе.
Манька жевала сено, молча соглашаясь с хозяйкой.
Когда за окнами явились сумерки, Варвара зажгла в комнатах свет. Дождавшись с работы мужа, поставила перед ним тарелку щей.
− Я нашла самородок, − тихо, чтобы никто не услышал, на ухо шепнула мужу.
Ложка остановилась у рта, Мишка недоверчиво поднял на жену глаза.
− Чего мелешь? Какой самородок? В уме ли?
− Во дворе, в луже. У собачьей будки. Сам бог послал. С неба, видать, упал. С дождем.
− Где он! Видел его еще кто?
− Никто не видел. Я спрятала в ясли под сено.
− Сиди и не высовывайся, − приказал жене Мишка, а сам, подхватившись, выбежал из хаты.
Отсутствовал он долго. Уже и недоеденные щи остыли, а его все не было. Варвару подмывало встать, пойти глянуть, где муж, уж не случилось что с ним, но вот, наконец, хлопнула дверь, и он, не сказав ни слова, сел к столу. Оба молчали. Варвара не расспрашивала. Только спросила:
− Подлить?
− Если кому-либо сболтнешь, проговоришься, несдобровать нам. – И, помедлив, добавил, − обоим. В тюрьму кинут. Поняла!
− Что ты, что ты! Не дай бог. Никому не скажу, − перепугавшись насмерть, горячо заверяла мужа. – Может, сдать его?
− Успеется. Поглядим по обстановке.
По какой такой обстановке Варвара не знала, но спрашивать не стала, доверилась мужу. Хозяином в доме был он.
−« Дорогие наши родители», − писали сыновья.
Варвара читала полученное письмо, а Мишка сидел и слушал, приткнувшись спиной к натопленной печи, грел застуженную поясницу.
Прошло лето. По реке, где драга мыла золото, пошли забереги, а в отдельных местах по мелкому каменистому руслу появился сплошной, но пока тонкий лед. Мощные стальные черпаки легко рушили его и без помех доставали со дна на промывку грунт.
По утрам поникшая трава серебрилась инеем. Оголились стайки белоствольных берез, помрачнели зеленоватые осинники, выставили напоказ свои корявые, гнутые, в колючках, почерневшие ветки кустарники.
Лес принял скучный и сумрачный вид, готовый к длинной, суровой зиме.
−«Пока не пишите нам, ждите нового письма, − читала дальше Варвара. – Мы покидаем свой нынешний боевой пост и отправляемся бить врага. Все жаждут этого. Наш замполит на досуге читает полюбившиеся нам стихи Некрасова:
Выдь на Волгу – чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется,
То бурлаки идут бечевой.
Желаем вам доброго здоровья. Берегите себя. Любящие вас сыновья».
После прочтения сыновьего послания оба, Мишка и Варвара, погрузились в раздумье.
− Хорошие стихи, − вздохнула Варвара. – Только не до них нынче.
− Ничего ты не поняла, − ответил ей Мишка. – Не в стихах дело.
− А в чем же? – уставилась на мужа Варвара.
− И то правду пословица говорит: волос длинный, да ум короток. Где сейчас немец? У Сталинграда. А где Сталинград? На Волге. Вот куда перебрасывают их. Молись богу, чтобы остались живы.
После откровения сыновей Мишка жил как неприкаянный. Плохо слышал, невпопад отвечал. Ходил хмурый и неразговорчивый. Даже о найденном самородке забыл.
− Худое что сталось? – спрашивали на драге. И Мишка рассказал о полученном от сыновей письме.
− Всем несладко, −выслушав, после молчания отвечали ему. – У многих кто-то на фронте. Сын, брат, отец. Только ты раньше времени не рви душу. А немцу не бывать за Волгой. Так и знай.
После недолгих раздумий Мишка принял решение. Далось оно ему не сразу, но отступать он не думал.
Напоследок зашел еще раз в спецмагазин, взглянул на висевшие ружья, особенно на Зауэра, задержал на нем взгляд – хороша Маша, да не ваша. Не минул и серенькую беличью шубку. Ее просила купить жена. После сдачи самородка.
− Зачем тебе она? Куда ходить будешь? Разве в сарай, козе сена подкинуть. На улице глаза пялить будут. Завидовать станут. А от зависти до вражды один шаг, − толковал он Варваре.
− Артисты приедут, в клуб под руку вместе пойдем. И не помню, когда уж так ходили.
− Какие артисты, война идет! – пытался урезонить жену Мишка.
− Но приезжали они! − не сдавалась Варвара.
− Так то когда было! До войны.
В душе Мишка жалел Варвару. Она была верной ему женой. Родила двух сыновей. Есть к кому в старости приклонить голову. Пообещал все же тогда ей шубу, а теперь, получается, не держит своего слова.
Но еще жальче было сыновей. Нет, не то, что они, якобы, были ему дороже жены. Он равно любил всех. Но Варвара рядом, под боком, в тепле и безопасности, а сыновья на войне. За кого он должен больше думать? Найди десяток таких самородков, отдал бы все, только бы вернулись домой.
Продавщица магазина спросила Мишку:
− Присматриваешь что для себя? Самородок нашел? – сказала она, не подозревая, что была близка к истине.
− Нашел, нашел, − в тон ей ответил Мишка. – Скажи, сколько стоит бочка спирта?
− Зачем тебе? – выкатила она удивленно глаза. – Неужто сыновей женить собираешься? Заочно.
− Не твое дело. Спрашивают, отвечай. Для этого ты и поставлена здесь. А остальное твоего ума не касается.
− Ишь, прыткий какой. Скажу, коль спрашиваешь, полторы тыщи. Это если на боны. А за деньги в пять раз дороже.
Через несколько дней Мишка явился к Люське. Она ждала его. Или это ему только показалось? Глянула своими пронзительными глазищами, спросила, как кирпичом по голове бухнула:
− На каких весах взвешивать будем?
Весы у нее были разные, в зависимости от величины самородка. Аналитические, для крохотных самородочков, пружинные и рычажные, начиная с настольных до десятичных, для больших масс металла.
− Что взвешивать-то? – похолодел Мишка. И, хотя ему нечего было бояться, самородок он принес, так сказать, добровольно, по собственной воле и никто не знал, когда он был найден, вчера или месяц назад, вот он, с ним, оттягивает карман, мал, но увесистый, все же Мишка был удивлен и напуган Люськиной проницательностью. На воре и шапка горит.
− Откуда ты знаешь? – спросил он, нащупывая в ватнике, не утерял ли, слиток.
− Знаю. Весь прииск знает.
Мишка только таращил глаза.
− Бочку спирта заказывал? – спросила Люська.
− Не заказывал, а только спросил цену.
− Как думаешь, кто сейчас станет интересоваться этим? Для чего? Кто без нужды будет тратить такие деньжищи? Свадеб нет, и не скоро будут, все деятельные мужики на фронте. Разве что находку «обмыть». Какую? Самородок. Что еще?
Возразить было нечего. Люська своей железной логикой положила его на лопатки. Чертова баба, мысленно выругал Мишка болтливую продавщицу магазина. Разнесла, как сорока, по всему прииску.
− Давай уже. Не держи в кармане, выкладывай, − примирительно и с насмешкой сказала Люська, и Мишка выложил слиток перед ней на стол.
Люська взяла в руку и покачала на ладони.
− На три с половиной потянет, не меньше. Знатная находка. В отвалах нашел?
− Там, − кивнул Мишка.
На другую сторону весов Люська положила гири. Весы нехотя качнулись и перетянули самородок.
− Ишь ты, малость поменьше будет.
Наконец, после недолгих Люськиных манипуляций самородок был взвешен. Три килограмма четыреста девяносто граммов. Без малого три с половиной кило.
− Распишись в журнале.
И Мишка в согласии поставил свою заковыку.
−Часть выдам бонами, другую, не взыщи – облигациями. Согласен?
− Ты вот что, Люська. Дай мне только на бочку спирта, остальное оставь себе.
− Как это себе? – изумилась она.
− Ну, государству. Как думаешь, на танк хватит?
Люська смотрела на Мишку во все глаза.
− Сыновья на Волге воюют. Под Сталинградом. Танкисты. Хочу им подарок сделать. Пусть на семейной броне немцев бьют.
− Понимаю, дядя Миша, − впервые назвала она его по имени. – Думаю, на танк хватит, еще и останется. Только надо написать заявление.
− Какое еще заявление?
− Указать фамилию, и на что желаешь, чтобы пошли твои деньги, полученные за самородок. Без этого никак нельзя. Все должно быть по форме, особенно такое благородное дело.
Мишка долго возил чернильным пером по чистому листку бумаги, положенному перед ним Люськой. Писал под ее диктовку. Расписался.
Продолжение далее...
Добавлено (27.02.2013, 14:55)
---------------------------------------------
Самородок( продолжение)
Глава 3
От магазина до Мишкиного двора было не больше сотни метров, и мужики с драги всем миром катили бочку со спиртом по улице. Радовались, подвернулась лафа приобщиться к найденному самородку. Надурняк.
На неровностях, наскакивая железом на бугорки и камешки, бочка, как живое существо, взбрыкивала, сворачивала в сторону, и тогда десятки вытянутых рук подхватывали ее и возвращали на дорогу.
Мишка тоже хотел прикоснуться к своему детищу, ощутить холод выкрашенного по бокам в голубой цвет металла, но его сокровище было плотно окружено со всех сторон, и пробиться к нему он не имел никакой возможности.
У двора перед калиткой бочку поставили «на попа» белым донышком с круглой ввернутой пробкой вверх и расступились, уступив место хозяину распорядиться ее содержимым.
Мишка принес молоток и зубило, нужного для таких дел инструмента у него не было, наставил острие зубила на край пробки и нанес удар. Раз и еще раз. Пробка туго сдвинулась с места (бочка была надежно закрыта, надо было понимать, что в ней хранилось!), потом пошла легче и под конец вывернулась рукой.
− У-у-х, − потянули носами надвинувшиеся мужики, учуяв запах дохнувшего на них спирта.
Заторопились, приткнули к краю бочки ведро и стали наклонять. Но тут раздались тревожные предупреждающие голоса.
− Стой, стой! Это тебе не солярка, проливать на землю. Шлангочкой сначала надо отобрать, шлангочкой.
Кто-то побежал за резиновой шлангочкой, и пока нес ее, толпе ничего не оставалось, как только нетерпеливо топтаться на месте.
Наконец, шлангочку доставили, сунули один конец в бочку, другой − к ведру и стали отсасывать воздух. Слышно было чмоканье губ.
Действие подозрительно затягивалось, а когда из толпы увидели вздутые щеки сосущего и конвульсивные движения мышц горла, шлангочку вырвали из его рук и с руганью оттолкнули от бочки.
− Пьет, гад! Пьет! Присосался к бочке, змей. Гони его.
Мужика с угрозами оттеснили в самый конец очереди и операцию повторили вновь. В донышко ударила пахучая струя спирта.
К наполненному ведру потянулись разнокалиберные кружки, солдатские котелки, фляжки, стеклянные банки и даже чайники. Началась давка, грозившая перейти в свару. Молчаливо-упертое сопение одних, успевших зачерпнуть из ведра в заготовленную тару горючую жидкость и прижимавших ее, как драгоценность, обеими руками к груди, и матерщина обойденных.
Мишку оттеснили, забыли о нем, и тогда он бросился наводить порядок. Сделать это было непросто. Пока разнимал одних, к бочке напирали другие.
− Теперь наклоняй ее, наклоняй! Не боись, не прольется! Малость отобрали, – орали подвыпившие мужики. И из наклоненной бочки, удерживаемой двумя парами крепких жилистых рук, с бульканьем опорожняющейся емкости хлынул щедрый поток и за считанные секунды наполнил ведро.
Мишка стоял на раздаче. Своей алюминиевой кружкой, которая вмещала четыреста граммов, он черпал из ведра и наливал в протянутую к нему посуду.
Ведро быстро пустело, и те же мускулистые руки наполняли его вновь.
Мишка не мог уследить, куда так быстро девается спирт. Бочка вмещала двести литров, и теперь она, изрядно опустошенная, гулко плескалась внутри, когда ее после очередного наклона возвращали в стоячее положение.
Кружка спирта, его алюминиевая кружка – это, однако, не фунт изюма, а если развести водой − целых восемьсот граммов водки. Можно и черта свалить, но не редеющая толпа тянула и тянула к нему пустую посуду. И он сдался. Плюнул на все и выпил свою порцию. Замер. Пересохло во рту, словно по нему прошелся жаркий африканский самум, а глотка стала луженой. Запить бы водой, но зачерпнуть не из чего. Откуда-то со стороны сунули в руки дольку тухлого окуня.
− На, вот. Загрызи.
И Мишка, пьянея, жевал синюшное с «душком» мясо окуня ангарского посола.
За первой кружкой пошла вторая, а там, наверное, была и третья. Он ничего уже не помнил. Его, как мертвеца, заволокла во двор жена Варвара. Еле осилила затянуть через порог в хату. Уложить на койку не было сил. Оставила на полу, подложив под голову подушку.
Сбегала на улицу. Там уже никого не было. Разошлись или расползлись по домам. Толкнула бочку. Она легко подалась. Пустая. Закатила во двор. Чего пропадать добру, за него уплачено.
Два дня драга стояла. Неслышно было грохота промывочного барабана, скрипа черпаков, ни, вообще, лязга железа. Прииск приходил в чувство.
Утром пришли за Мишкой. С кобурой на боку, в хромачах военный комендант прииска приказал следовавшим за ним солдатам охранного взвода подобрать валявшиеся напротив калитки несколько кружек и котелок, как вещественные доказательства.
Бросившегося во дворе с лаем пса пинками кованых сапог загнали в конуру, а собачий лаз загородили бочкой.
− Свежо, − потянули носами солдаты, позавидовав загулявшим мужикам.
Вместе с конторскими по улицам ходили вооруженные охранники. Не пропускали ни одной хаты. Слышался пьяный визг баб и сквернословие дражников. Это конфисковывали спирт и настоянную бражку, выносили за порог и лили на землю. Сколько было выпито, а сколько вылито припрятанного – одному богу известно.
Мишка просидел в камере при охранном взводе сутки, а на вторые его завели в кабинет коменданта.
− Рассказывай, где самородок?
− Сдал. Люське сдал. Как на духу говорю. В бумаге расписался. Можно спросить ее.
− Спрошу. А другой где?
− Какой, другой? – не понял Мишка.
− Не прикидывайся. Все знаю. Где другой самородок?
Мишка удивленно глядел на коменданта.
− Семен Васильевич, да ты что! Никакого другого и в помине не было! Сам знаешь, такое счастье ходит в одиночку.
− Я тебе не Семен Васильевич! – гаркнул комендант. – Кто ты такой? Враг народа. Арестованный за подрыв Советской власти, за злодеяние против нее. Знаешь, что следует за это в военное время! Дежурный! – крикнул он. – Быстро, приемщицу сюда!
Мишка смотрел во все глаза. Вот как повернулось дело с этим чертовым самородком. Лучше бы он не находил его.
Минут через двадцать пришла Люська. Стояла осень, было прохладно, и на ее плечах, поверх платья, был накинут суконный пиджачок.
− Садись! – приказал комендант.
Люська присела на стул, отставив круглоносые башмаки, перетянутые сверху узкими ремешками с металлическими застежками.
Выглядела она немодно по сравнению с теми приисковыми девицами, которые по вечерам ходили в клуб не столько в кино, сколько покрасоваться перед хромыми и больными мужиками (других не было), которых не взяли на фронт по состоянию здоровья.
− Оформила, как положено? – спросил ее комендант?
− Конечно, Семен Васильевич. Как же иначе, − ответила Люська.
− И сколько весит самородок?
− Три кило четыреста девяносто граммов.
− А мог он, − комендант неприязненно кивнул в сторону Мишки, − отрубить или отпилить от него кусок, а остальное сдать тебе. Ты хорошо смотрела?
− Семен Васильевич, самородок за свою жизнь приобретает от природы определенную форму. Если ее нарушить, сделать даже незначительный надрез, не скроешь. Сразу видно.
− Та-ак, − недоволен был комендант ответом Люськи, хотелось большего. Но и простой драги, когда в сезон дорог каждый день, да что там день, час, был веским аргументом. Не зря он государственный хлеб ест. Заметят. Повысят в звании, а может, и в должности. Переведут из этого глухого угла, глядишь, в самый Красноярск. Но хорошо бы иметь еще один аргументик. Повесомее. Договориться с приемщицей, отрезать от самородка самый малый кусочек. Вот оно, кража золота! А это уже тянуло на серьезное дело.
− Поглядеть хочу, − сказал он Люське. – Увидеть своими глазами.
− Не могу. Опечатала весь металл, записала в журнал. На днях прилетит за ним самолет.
− Так опечатаешь снова!
− Нельзя, не положено. Чтобы вскрыть опечатанные ящики, надо иметь на то веские причины и только с согласия моего начальства.
− А я для тебя не начальство!
Люська стояла на своем. Открывать ящики не станет. Есть инструкция, и против нее не пойдет. Делайте с ней что хотите, хоть режьте, но инструкцию она не нарушит.
Конвоир, из своих, приисковых, когда вел Мишку назад в камеру, сочувствуя ему, приблизился и шепнул в самое ухо:
− Дурак ты. Надо было поделиться с ним. Теперь засудит. Жалко тебя. Пропадешь.
Мишка молчал. Привыкший зарабатывать на жизнь своим «горбом», он отказывался верить в такую жуткую несправедливость. Происходящее с ним казалось дурным сном, который вот-вот должен закончиться.
На другой день к зданию комендатуры, мало чем отличавшемуся от остальных бревенчатых изб прииска, разве что решетками на окнах, часовым и отпугивающей вывеской, пришли мужики с драги просить за Мишку.
Часовой их не пропустил. Нельзя. Здесь не клуб. Если по важному делу, это одно, доложу, а так – ожидайте на улице.
И мужики, отойдя от порога, чтобы неслышно было их ругани, долго не расходились, переминаясь с ноги на ногу.
− Виданое ли дело, − толковали они, − ни за что держать человека в кутузке! За какие такие грехи? Обмыли самородок. Все честь по чести, по совести, как положено в оных случаях. Нешто каждый день такие находки!
Мишку увезли в Красноярск. На прилетевшем самолете. Вместе с добытым драгой золотом и его самородком в сопровождении вооруженных конвоиров. В руках он держал сумку с харчами, собранными женой Варварой в дорогу. В двери, задержавшись, оглянулся, но его подтолкнули в спину.
Самолет запустил двигатель, взревел, разогнался по летному полю и взмыл вверх. Над тайгой какое-то время стоял его рокот. Потом пропал.
Прииск погрузился в спячку. Зима не лето, не видать света. Рано наступали сумерки, поздно сквозь темноту пробивался рассвет.
Мрачное по-зимнему свинцовое небо низко висело над крышами изб, из труб вился дымок, почти каждый день шел снег.
Великий мастеровой – богом данная природа посеребрила тайгу, скрыв белоснежными мазками вечнозеленые кроны сосен, пихт, елей, одела в легкие, пушистые ледяные шапки кусты, провела между стволами деревьев извилистые линии насыпанных сугробов. Казалось, все живое попряталось в свои норы. На самом деле и прииск, и тайга жили каждый своей жизнью.
Драга остановилась, вмерзнув в лед, но не замерла. Каждый день на ней копошились люди. Шел ремонт, подготовка к новому промывочному сезону.
Лошадки по одной или в паре тащили на санях изношенное или сломанное железо разных механизмов к мастерским, а там допоздна громыхал кузнечный пневматический молот, стучали молотки, вращались патроны токарных и фрезерных станков.
Не хватало металлических болванок, из которых изготавливались детали. Заводы Красноярска помочь не могли, работали только на фронт.
И тогда инженерные головы, высланные из Питера еще в тридцать седьмом, соорудили вагранку, где переплавляли металлолом. Футеровали внутри кварцитом, огнеупором, искали выходы его по берегам рек.
Продолжение далее...
Сообщение отредактировал Evgeniy - Среда, 27 Фев 2013, 15:01 |
| |
|
|
| volnova | Дата: Среда, 27 Фев 2013, 14:58 | Сообщение # 6 |
 Долгожитель форума
Группа: МСТС "Озарение"
Сообщений: 1342
Статус:  | Ждём продолжения, Евгений)))
Вольнова Ольга
|
| |
|
|
| Evgeniy | Дата: Вторник, 19 Мар 2013, 17:35 | Сообщение # 7 |
|
Группа: Удаленные
| Самородок( окончание)
Приисковые задирали головы, заглядывались на высокую каменную башню и пожимали плечами. Чудо и только. Поглядим, что из этого выйдет.
В земляных закрытых ямах, «кучах», томилась тлеющая береза. По старинке готовили для вагранок древесный уголь, способный заменить кокс.
И дела пошли. В приготовленные формы из летки пошел первый расплавленный металл.
Морозным днем прииск был взволнован сообщением. Комендант принес в клуб единственный, имевшийся только у него приемник, остальные, у кого они были, в начале войны изъяли.
На сцену затащили стол, убрали с него патефон с пластинками. Зал притих. Все кресла были заняты, толпились в проходах, у дверей. Послушать новости пришел весь прииск. Комендант щелкнул переключателем, нашел нужную волну, и приемник заговорил.
− От советского Информбюро…
Голос звучал необычайной торжественностью и проникал в самую душу, его знала вся страна. Говорил Левитан.
− После ожесточенных и упорных боев, начавшихся девятнадцатого ноября, войска Юго-Западного и Донского фронтов под командованием генерала Рокоссовского сегодня, двадцать третьего ноября, успешно завершили операцию по окружению под Сталинградом крупной группировки немецко-фашистских войск…
Зал молчал. В мертвой тишине − вытянутые, окаменевшие лица. Ни одного движения. Только глаза, их блеск выказывал внутреннее напряжение. У многих отцы и сыновья сражались на разных фронтах. Живы ли они?
− В стальном кольце наших доблестных воинов оказались двадцать две дивизии гитлеровцев численностью свыше трехсот тысяч человек!
И зал взорвался.
− Ура-а-а, ура-а-а, − гремел клуб, дрожали оконные стекла. Поднятые руки со сжатыми в кулаки ладонями, радость и слезы.
Глава 4
В феврале месяце в разгар сорокаградусных морозов начальник прииска получил почту. В этом не было ничего особенного. Почта приходила на прииск регулярно, ее доставляли самолетом. Других путей сообщения с Большой землей в зимнее время не было.
Петр Захарович в конторе за служебным столом разбирал полученные письма. Это были распоряжения и приказы по Горному департаменту всего обширного сибирского края. В них особо подчеркивалось неукоснительное соблюдение плана сдачи металла. Одних за его перевыполнение ставили в пример, поощряли премиями, наградами, других – снимали с работы. Что за этим следовало, Петр Захарович знал.
Среди почты в руки попал тоненький пакет. Адресован он был начальнику прииска, следовательно, ему. Ни имени, ни фамилии. Обратным адресом стоял номер воинской части.
Осторожно перочинным ножичком Петр Захарович вскрыл конверт. В нем было несколько листков, и он стал читать первый.
Это был печатный бланк с расположенным вверху среди красных знамен в военной форме портретом Сталина. Ниже от руки было написано:
Сержанту Беспалову
Леониду Михайловичу
И дальше печатным текстом:
Приказом Верховного Главнокомандующего
Маршала Советского Союза товарища Сталина
От 10 января 1943 года
за окружение и уничтожение немецко-фашистской
группировки войск под Сталинградом
всему личному составу нашего соединения, в
том числе и Вам, принимавшему участие в боях,
ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ.
Ниже стояла подпись командира воинской части, печать, а еще ниже – рисунок, бойцы со штыками наперевес идут в атаку. И еще ниже слова:
Мы в битвах решаем судьбу поколений,
Мы к славе Отчизну свою поведем!
Петр Захарович отложил благодарственную грамоту в сторону. Под ней оказалась еще одна, точно такая, но с другим именем:
Ефрейтору Беспалову
Игорю Михайловичу
На следующем листе сообщалось, что Леонид и Игорь Беспаловы, братья, танкисты передового отряда танкового корпуса, 22-го ноября на рассвете дерзкой атакой захватили у врага исправный мост через Дон у г. Калач и удерживали его до подхода главных сил, что способствовало окружению немцев под Сталинградом. Оба награждены орденами Боевого Красного знамени и медалями «За отвагу», повышены в воинских званиях. Танк Игоря во время боя был подбит, горел, но не прекращал вести огонь по врагу, и сам он сильно обожжен, ослеп, находится в госпитале. После излечения Леонид Беспалов, теперь уже лейтенант Советской Армии, доставит своего брата домой.
Командование части просит на общем собрании прииска зачитать благодарственные письма Верховного Главнокомандующего и рассказать о подвиге ваших земляков.
Ниже стояла подпись начальника штаба и печать.
− Вот так дела, − высказался вслух озабоченный и обрадованный Петр Захарович.
Он всунул все три листка назад в конверт, поднялся из-за стола, вызванной секретарше сказал:
− Я в комендатуру. По пустякам не беги за мной, − и, одевшись, вышел из конторы.
Мороз стоял за тридцать. По сибирским меркам это была хорошая, рабочая температура. Под ногами поскрипывал снег, по дороге кивали встречные, почтительно приветствовали, но он никого и ничего не замечал. Голова была полна мыслей.
Хозяин комендатуры сидел у себя в кабинете. Удивленно поднял голову. С прииска редко кто заглядывал к нему, чаще он бывал у них в «гостях».
− Читай, − протянул Петр Захарович конверт.
И комендант, как всего полчаса назад начальник прииска, развернул вытащенные из конверта бумаги. Прочитанные листки откладывал в сторону.
− Ну и что, − выдавил он из себя. − Сыновья герои, а отец враг народа. И такое бывает. Они должны отказаться от своего родства. Не забывай, за пятнадцать минут опоздания на работу светит срок десять лет! А тут два дня простоя, и по чьей вине? Самородок обмывали, − съехидничал комендант, оправдываясь. − Сколько недополучено металла? Посчитал!
− План дали. Сто четыре процента выполнения. И отец этих ребят, стакер Михаил Беспалов, никакой не враг для нас. Найденный слиток золота отдал государству на строительство танка, а народ наш, приисковый, угостил. И только. Такая находка случается не каждый день. Как объяснишь это его сыновьям, когда явятся домой?
− А никак. Письмо адресовано тебе, вот ты и объяснишь. Так и так, скажешь, по вине вашего отца драга не работала целых два дня, урон государству нанесен такой-то, − и комендант протянул пакет обратно.
Петр Захарович поднялся со стула.
− Надо понимать, письма Верховного, а, стало быть, самого Сталина тебе не указ?
Комендант, как ужаленный, вскочил из-за стола. − Да за такие слова!.. Я сейчас позову охрану, и ты загремишь следом …
− Не позовешь. У меня в надежном месте хранится письмо приемщицы, где она говорит, что ты требовал от нее сорвать пломбы и открыть, показать тебе, якобы для проверки, опечатанные ящики с золотом. В случае чего письмо будет доставлено в Красноярск.
На самом деле никакого письма у Петра Захаровича не было. Люська просто пожаловалась ему на самоуправство коменданта, только и всего.
− Правильно поступила, − успокоил он ее.− Не для каждого глаза казна государства напоказ. Стой на своем, держись инструкции.
Петр Захарович был интеллигентный и образованный человек и не терпел прощелыг, возвысившихся над людьми данной им властью.
− Садись, − почти приказал он коменданту. – Я тоже не последний человек здесь. И там, наверху, − Петр Захарович указал пальцем в потолок, − со мной считаются, потому что прииск выполняет план. А каково это с оставшимися калеками и стариками и в отсутствии нужных до зарезу для работы драги деталей? Сам видишь. Давай договоримся. На днях будет самолет, вот и полетишь с ним обратным рейсом в Красноярск.
Петр Захарович положил конверт с письмами Верховного на стол.
− Выручать Беспалова, тобою арестованного, − уже совсем мирно добавил он. − Скажешь, ошибочка вышла. С кем не бывает. Ну, ты сам знаешь, что и как сказать. А для пущей убедительности соболишек прихватишь с собой. Да не каких-то рыженьких, а самых что ни есть лучших, черноспинных. Я распоряжусь. Принесут тебе. Не пожалеют для такого дела. И, главное, напирай на благодарности Верховного. У героев сыновей отец не может быть врагом народа.
Комендант молчал. Петр Захарович понимал, таких людей переубедить обыкновенными человеческими словами очень трудно или совсем не представляется возможным. И тогда он выложил свой последний аргумент.
− Приедут сыновья, к кому они придут за правдой, как думаешь? Кто арестовывал их отца и, главное, за что? Ну, выпили, немного погуляли, так это скорее не вина, больше на грех смахивает. Так пусть поп и судит. К тому же, мужики наверстали упущенное, − Петр Захарович хотел добавить «прогулянные» дни, но вовремя спохватился.
Комендант не отвечал, и тогда Петр Захарович тихо, как бы про себя, заметил:
− Беды бы не вышло. Хлопцы молодые, а уже повидали многое. Им не то что немец, сам черт теперь не страшен.
Дни шли за днями. В феврале столбик термометра опускался чуть ли не до пятидесяти градусов, в избах топили печи дважды на день, дым из труб в полном безветрии ровным столбом поднимался высоко в небо и только там расплывался тонкими слоями.
Длинными вечерами приисковые собирались в клубе. Слушали радио. Обстановка на фронте после разгрома немцев под Сталинградом изменилась, появилась так необходимая людям уверенность, – выстоим. Тревожные настроения исчезли, не стало им места, и комендант оставил приемник в клубе.
Крутили патефон, устраивали под него танцы. Подросшие за годы войны девчонки, одетые в длинные юбки, сняв валенки, переобувались в простенькие туфельки. Парней не было, все на фронте, и они танцевали со своими подружками. Очень полюбилось одно танго. Заезженная пластинка издавала хриплый звук мелодии:
Утомленное солнце
Нежно с морем прощалось,
В этот час ты призналась,
Что нет любви.
Было странно слышать родившийся где-то у теплого под жарким южным солнцем моря этот грустный мотив, бьющийся в промерзлых бревенчатых стенах клуба, окруженного на тысячи верст глубокими сибирскими снегами.
Девчонки томились чужой любовью, как своей, а те, кто был в годах, тихо сидели на лавках, слушали музыку.
За «Утомленным солнцем» ставили «Рио-Риту». Это был веселый быстрый фокстрот. И танцы продолжались дальше.
Комендант вернулся из Красноярска один. Маленький самолетик, который один раз в неделю привозил почту на прииск и мог, в случае необходимости, взять на борт десяток пассажиров, коснулся лыжами заснеженной полосы, гордо называемой здесь аэродромом, пробежал в ее конец, громко фыркнул, разворачиваясь, чихнул и остановил винт.
Из открытой двери на снег выбросили перевязанные стопки газет, писем, следом за ними по короткой приставленной лесенке спустился и сам комендант.
Каждый рейс самолета на прииске ждали с нетерпением. Ждали весточек с фронта, и на аэродром подгоняемые нарастающим гулом в небе стекались люди. В этот раз их было даже больше, чем обычно. Присоединились еще и дражники – пришли встречать Мишку. Стояла в ожидании и жена его – Варвара.
О нелицеприятном разговоре начальника прииска с военным комендантом (шила в мешке не утаишь) знали, и что после этого тот улетел в Красноярск выручать им же арестованного стакера, догадывались.
Уже и дверь самолета захлопнулась, взревел мотор и бешено завертелся единственный его винт, а Мишки все не было. Но дражники не уходили, надеялись на чудо.
И только когда шасси оторвалось от взлетной полосы, и самолет стал набирать над тайгой высоту, угрюмо разошлись по домам.
Петр Захарович не покидал конторы. Он уже знал, ему доложили о прибытии коменданта, и что тот вернулся один. Ждал у себя.
Но прошел час, а коменданта все не было. Что-то случилось? Неужели ничего не вышло? Может, мало соболей привез, или Беспалова освободят не так скоро, как хотелось бы?
И он сам направился в комендатуру.
В кабинете стоял сизый дым. Пепельница была полна смятых окурков, а сам комендант, облокотившись на стол, сидел с опущенной головой. Рядом стояла пустая бутылка и стакан.
Петр Захарович понял все. Беспалова не освободили. Не помогли ни благодарственные письма самого Верховного, ни черноспинные соболя. По всей вероятности он уже где-то на пересылке по дороге на Колыму.
− Рассказывай. Может, надо еще что-то сделать? – с надеждой спросил Петр Захарович.
Комендант отрицательно покачал головой.
− Ему уже ничем не поможешь.
− Почему? Так далеко заслали?
− Дальше некуда, − с кривой усмешкой ответил комендант.
− Говори яснее. В чем дело?
− Расстреляли.
Петр Захарович молчал. Он был оглушен. Непостижимо! Человек сдал государству найденный самородок золота, и его за это лишили жизни.
− За что расстреляли? − спросил он.
− За саботаж.
Петр Захарович возвращался в контору, не чувствуя мороза и не видя под собой дороги. Ноги несли сами.
Ближе к весне прииск залихорадило во второй раз. Исчез комендант. Последний раз видели несколько дней назад, заходил в магазин, купил бутылку водки. С тех пор как в воду канул. Не появлялся ни дома, ни в комендатуре.
Поползли слухи – нет в живых. Отомстили за Мишку. Подкараулили где-то в темноте. Зимние дни короткие, а ночи длинные, дали по башке, связали и утащили в тайгу. Бросили там. Замерзай, гад! Попробуй, отыщи, когда все следы присыпало снегом. А то в прорубь спустили. Где выплывет весной, одному богу известно.
Понаехало из Красноярска НКВДэшников! Весь прииск перешерстили, допрашивали. Особенно дражников, а среди них – дружков Мишки.
− Пили вместе? – намекая на бочку спирта, спрашивали их.
− А то! Как отказаться от угощения? Чего не выпить. Не краденое.
− А на работу не ходить сговорились?
− Какое-там. Очумели от выпитого. Кружками хлестали. Бабы бесчувственных домой волокли, как бревна. Отлежались, вышли. Никакого саботажа.
− От кого слово такое слышал? – тотчас молнией сверкнули глаза.
− От ссыльных. Политических.
− Здешних?
Дражники насторожились. И дернул же черт такое слово вымолвить. Мигом хороших людей можно под монастырь подвести.
− Нет. Еще от тех, что при царе были. Жил в наших краях в ссылке Серго Орджоникидзе. Наши отцы от него слышали. Рассказывали.
Так ничего и не добившись, не найдя ни малейшей зацепки, НКВДэшники улетели назад.
Весна пришла в свое назначенное время. Куда ей деваться. В апреле ранними утрами под подошвами сапог трещала тоненькая пленка льда схваченных за ночь, натаявших днем луж, вовсю цвинькали ожившие после зимы синицы, из хозяйских дворов несло вытаявшим коровьим навозом, а в прозрачной синеве морозного воздуха стоял затаенный вздох пробуждающейся природы.
Снег сходил на глазах. Днем припекало так, что под шапкой потела голова. Улицы прииска очистились от снежных наносов, а на солнечных склонах запарила земля.
Из тайги выходили охотники. Промысел закончился, возвращались домой с добычей – беличьими и соболиными шкурками.
Иван Безруких, прозванный за свой рост Дылда, наткнулся на вытаявший труп. В полушубке и серых валенках, вытянувшись в рост, тот лежал, уткнувшись в землю. Рядом – свалившаяся с головы меховая шапка. Лицо, то, что видел Иван, было объедено лесными зверьками. Полураскрытая ладонь, тоже изгрызенная, костяшками пальцев удерживала пистолет.
Иван не стал переворачивать труп, догадался кто это, взял пистолет и на следующий день сдал в комендатуру.
Прииск залихорадило в третий раз. Только теперь разговоры были иные. Одни злорадствовали, другие жалели коменданта.
− Покончил с собой. Видать, совесть замучила. И то, − загубил невинную душу.
Следователь из НКВД подтвердил:
− Застрелился.
Евгений Рудов
Добавлено (13.03.2013, 08:55)
---------------------------------------------
Анна
Эта быль рассказана мне моей славной тетушкой Тамарой Павловной Рудовой, а ей – ее матушкой Анной, главной героиней рассказа, дочерью известнейшего на то время в шахтерском городке Крындачевка и за его пределами штейгера Павла Демьяновича Бондаренко, уроженца хутора Христофоровка. Он словно видел сквозь толщу земной тверди залежи угля. Без его участия не закладывалась ни одна шахта и в наших краях, и в других регионах Донбасса, например, Горловке. Шахты Анненка (Сталинский забой), Васильевская (имени газеты «Известия») в нынешнем городе Красный Луч (ранее Крындачевка) – это его вехи.
В рассказе нет ни вымышленных имен, ни вымышленных событий. Все происходило именно так, как в ту весну 1920 года…
Были сборы недолги, от Кубани и Волги
мы коней поднимали в поход...
Весна в этом году выдалась ранняя. С юга подули теплые ветры, под пригревающим солнцем быстро таял снег, и перезимовавшая земля, как и тысячи лет назад, выставив на обозрение свой жирный чернозем, собиралась вскоре зацвести пышными в пояс травами. Паши и сей. Вот только пахать и сеять на ней было особенно некому и нечем. Империалистическая, а затем и Гражданская разорили многие хозяйства, оторвав от них мужиков, лишили их части инвентаря, а главное, тягловой силы – лошадей, оставив на крестьянских подворьях малых детей, стариков и баб.
Старинное украинское село Ивановка, что вблизи шахтерского городка Криндачевка, рядом с проходившим мимо не менее историческим шляхом, связывающим с давних времен запорожских казаков с донскими, тревожилось в ожидании посевной. Пересчитывали выбракованных, непригодных войсковой коннице доходяг, оставленных взамен реквизированных у крестьян добротных, сильных пахотных битюгов. Забирали лошадей и красные, и белые, и махновцы – чья сила проходила в ту пору через село. На мрачные лица мужиков и вопли баб не обращали внимания, а особо ретивых угощали плетью.
– Вы что, против Советской власти! Она вам землю дала, а вы бунтовать! – ругали селян комиссары.
– Для защиты Отечества от красной сволочи лошадей жалеете?! – угрожали золотопогонники.
Махновцы – те были добрее. Они рассчитывались бумажками с изображением батьки. Деньги были напечатаны с одной стороны.
– Для сортира сгодятся, – угрюмо ворчали мужики.
– Шшо-о! Портретом батьки жопу вытирать! Смотрите мне! Другой стороной пользуйтесь, чистой, – и реготали так, что тряслись животы.
Вечером к моложавой статной жене красноармейца Анне, муж которой воевал за рабоче-крестьянское дело и от которого за все время она не имела ни одной весточки, не знала – вдова она или солдатка, заскочила в хату соседка.
– Ты чула, мужики на Кубань збыраються, – как великую тайну сообщила шепотом.
– И чого цэ воны у тих краях забулы?
– Кажуть, козакы там свои хозяйства розпродують. Конэй, волив, та инше.
– Навищо?
– А бис його знае. Може, тикають куды. Чуткы, що тэпэрышня влада козакив не дужэ любыть, утыскае йих.
– А хто ж йде?
– Сэмэн хромый, двое його сусидив, потим Носко Фэдир, Василь Нэтудыхата, та й ще з нымы. Дэсятэро мужыкив назбыралось.
Анна долго ворочалась в постели. Не спалось. Слышала, как сопели во сне дети, похрапывала на койке стареющая мать. Вздыхала. Був бы йии Павло дома, тэж пишов бы з нымы. Багато на корови нэ наораты. Живый вин чи вже й нэма його? Думы, думы… Одна гирше другий. За викнамы нич, у хати темрява.
Утром Анна побежала к Семену. Бывший подпрапорщик, Георгиевский кавалер, раненный в ногу на германском фронте, – это он собирал ватагу на Кубань, сразу отрезал ей.
– Ты что, сдурела! Разве это бабье дело? А ну как по дороге ограбят или убьют? Война. Сиди дома.
– А жиноче цэ дило зэмлю ораты! Ты хоча й хромый, алэ мужык, а у мэнэ й такого нэма.
– Ну, не знаю, не знаю. Как скажут остальные. А я против. Баба в таком деле только помеха.
Анна обежала всех остальных. Уговаривала, просила, плакала, жаловалась на свою долю.
− Та що ж мэни, так всэ життя на корови ораты та сияты? Чи може малых дитэй в ярмо запрягаты?
Ей удалось уговорить больше половины ходоков. Проголосовали. Недовольный таким решением Семен сказал:
– Смотри, баба. Если что, пеняй на себя. Я за тебя не в ответе.
– Як-нэбудь постою за сэбэ сама. Колы вырушаемо?
– Рано утром, – ответил ей и всем остальным Семен. – Идите, готовьтесь в дорогу.
Шли гуртом, не отставали. У всех за плечами висели котомки. Куда ни кинь глаз, повсюду в серых, голых, безлистных перелесках лежала отходящая от зимней спячки земля.
Когда солнце подымалось к полудню, выбирали место посуше, усаживаясь передохнуть на обочине дороги. Развязывали узелки и перекусывали своей выпечки хлебом, салом и луком. Ели молча, не заглядывая в чужие рты. Еда выглядела как священнодействие. И только закончив ее, бережно сложив остатки в котомки, осеняли себя крестом и шептали молитву.
– Ну, с богом, – крякал, подымаясь, подтягивая хромую ногу, Степан. За ним следовали остальные.
В селах их встречали по-разному. Расспрашивали, куда идут. Пока были недалеко от родных мест – находили у себя дома общих со здешними селянами знакомых или даже родственников, пусть дальних, но сейчас таких близких, родных душ. Разговор сразу оживал. Перебивая друг друга, тараторили, делясь запомнившимися из жизни подробностями. Заканчивалось это тем, что всех пускали ночевать в хату, а если в ней было тесно, то разводили по соседям.
Ближе к Дону тамошние казаки косо поглядывали на пришлых, а узнав об их цели, отворачивались и больше не вступали в разговор.
– Ишь, – недовольно высказывался Семен, – морду воротют. Как будто не за одного царя на войну с германцем ходили. Правду говорили, на Кубань иттить надо, неча нам тут делать.
– Вот ты Георгия носишь, – вступил в разговор Федор Носко, намекая о награде Семена, – а рылом против них все равно не вышел. Нашего брата, крестьянина, чуток прижми, он только сопеть будет. В две дырочки. Делай с ним, что хочешь. В кармане дулю скрутит, а власти подчинится. Потому как боится ее. А эти вольные. Спокон веку. Им шашкой рубить, что нам палкой семечки из подсолнуха выколачивать.
На Кубани ватага ходоков распалась и разбрелась по селам. Теперь каждый стал сам себе голова и норовил опередить другого. Но казаки на Кубани, как и на Дону, не торопились расставаться с нажитым добром, выжидая, куда повернет новая власть.
Анна дошла до станицы Кущевской. Там познакомилась с семьей красного казака. Муж казачки служил в конной армии Буденного. У нее она и заночевала.
Мария, так звали красную казачку, подсказала Анне:
– В станице ты ничего не найдешь. Кто из казаков ушел на войну на своих лошадях, у кого их просто забрали, а кто припрятал коней на хуторах. Туда и иди. Есть тут один недалеко. Зажиточные там казаки.
Утром Анна отправилась в дорогу. Сразу за станицей начинались казачьи наделы. Земля вытаяла из-под снега, подсохла и ждала, когда коснется ее плуг.
Анна присела у края дороги, набрала горсть чернозема, крошила меж пальцев. Какова земля, таков и хлеб. Земля здесь была жирная, родючая, как и у нее дома.
Казачья станица осталась позади, скрылась за горизонтом, а впереди завиднелся лесок. Через час Анна вошла в него. Это была далеко тянувшаяся по обе от нее стороны, заросшая деревьями балка. Почки на ветках надулись, разбухли, готовые в любой момент прыснуть нежной зеленью. Стоял чудный, неповторимый запах весны. Анна даже глубже задышала носом.
За балкой опять пошла пахотная земля, а через версту показался и хутор. Среди десятка крыш одна из них выделялась крытым железом. Туда и направилась Анна.
– Чего ищешь? – вышел из калитки в начищенных хромовых сапогах с заправленными в них из добротного темно-синего сукна холошинами брюк стареющий, с сединой на висках хозяин подворья.
– Конэй шукаю, – ответила Анна.
– А ты что, потеряла их здесь или как?
– Та ни, купыты хочу.
Казак испытующе окинул женщину взглядом. Кто она? Откуда? С Украины? Так гарно, спивуче, не розмовляв тут нихто. За прошедшие полтора столетия, когда Екатерина переселила сюда украинских козакив, стали забывать они свой родной язык, смешался он с русским.
А не подослана она? Новая власть косо смотрит на зажиточных казаков. Того и жди, поотымет все. Надо уходить отселе, пока ишшо есть время. Но подождите, сукины дети, мы еще вернемся. И на наших воротах ще засвитыть сонце.
А вслух сказал:
– А какие у тебя деньги?
Бумажкам новой власти он не доверял. Они падали в цене не по дням, а по часам. Коробок спичек в лавке стоил один миллион. Деньги нужно было носить уже не в бумажнике, а в мешке.
– Та е трохы, алэ на конэй выстачить, – ответила Анна.
– Ну, если не обманываешь, – сурово предупредил хозяин подворья, поняв намек женщины, – тогда пойдем смотреть. И распахнул перед Анной калитку.
В дальнем сарае скрытно от посторонних глаз стояли два гнедых жеребца. Даже в полутьме разглядела Анна их конскую стать и силу. Ухоженные, вычесанные, с густыми черными гривами, как два готовых к бою гладиатора, стояли они на крепких ногах к ней длинными, чуть ли не до полу хвостами и жевали сено.
Почувствовав постороннего, лошади повернули головы, скосили умные глаза на Анну и так же, как до этого их хозяин, стали разглядывать ее.
– Ну как? – спросил казак, выведя Анну из схованки. – Нравятся тебе кони или нет?
– Гарни, – это было все, что могла вымолвить Анна и полезла за пазуху. Там, в укромном местечке, спрятанные в дорогу, надежно хранились золотой чеканки пятерки и десятки с изображением головы российского самодержца.
– Це, Ганно, твое прыданэ, – выдавая дочь замуж за Павла, говорила ей мать, показывая приготовленные для неё, завернутые в тряпочку золотые монеты. – Мий батько, Павло Демьяновичу, а твий дид був поважна людына, штейгер. Заробляв вэлыки гроши. Без нього жодна копальня нэ будувалась. Глянэ, було, свойим оком на зэмлю и кажэ – ось тут копайте. А за наше село, Иванивку, казав, тут нема вугилля, одни тилькы хвисты. И цэ правда. Колы вин вмэр – копалы, думалы – помылявся, алэ марно, ничого не знайшлы.
Когда хозяин выводил со двора лошадей, у его калитки собралось несколько хуторян.
– Купи у меня биду, – предложил один из них Анне. – Бабе в юбке несподручно ехать верхом, а женских седел у нас нет. Они у дворян та князей были, а мы казаки простые, неименитые.
Анне понравилась бидарка. Легкая, прочная, ладно скроенная, – Анна хорошо разбиралась в домашнем инвентаре, – одноосная тележка была очень удобна для езды, а ей предстоял неблизкий обратный путь, да и дома в хозяйстве сгодится.
– Визьму тилькы з упряжью, – согласилась она.
– Чего уж там, и запрягу сам, – рад был удаче хуторянин.
Вскоре, по-пански, удобно расположившись в биде, Анна встряхивала подаренной ей плетью, погоняя запряженного в нее жеребца, второй впристяжку бежал рядом.
Красная казачка из Кущевки напутствовала Анну:
– Отселе дорога ведет на Батайск. Езжай туда. Дон там совсем рядом. Через него переправу навели, слышала. И мой там. Казаки весточку привезли. Жив, скоро домой насовсем вернется.
Ехала домой Анна с легкой душой и великой радостью. Дорога будто сама ложилась под копыта лошадей и колеса бидарки. Не нужно было больше мерять ее шагами, поправлять сбившиеся, нарезавшие плечи лямки висевшей за спиной котомки, выглядывать подходящее место для отдыха.
Свободная от этих забот она примечала все – и голубое небо, и греющее ясное солнышко, чернеющую землю и зеленеющую по обочинам первую травку. Все радовало ее. Но самой большой радостью, конечно, были ее кони. Она не могла налюбоваться ими. Откормленные, застоявшиеся, они не чувствовали под собой ног. Теперь-то она вспашет свою землю. Еще и соседке, что надоумила ехать на Кубань, поможет. Она тоже одна, муж воюет.
На окраине Батайска ее окружил конный разъезд. Это были казаки Буденного. В шапках с длинными свисающими клапанами для ушей и похожим на короткий рог острым выростом сверху. Добрые под ними кони не стояли на месте, гарцевали, перебирая ногами, словно торопили своих хозяев.
– Гэй, жиночка, – пристав к самой бидарке, окликнул один из них Анну, – ты кто такая и откуда едешь? Что-то не примечал тебя здесь ранее.
– Ось йиду з гостей вид своих родычив додому, – соврала она, сразу почувствовав, что так просто ей от казаков не отделаться.
– Богатые, вижу, у тебя родичи, раз дали таких лошадей.
– Цэ мойи кони. Нихто мэни йих не давав, – врала она дальше.
– А ты знаешь, что армия Буденного, которая повсюду бьет белых, нуждается в лошадях?
– Звидкы мэни цэ знаты, та й навищо? Хай видбырае конэй у билых, якщо йий треба, а мэнэ не чипае. Я слабка жинка, та й ораты час прыйшов.
Казак, это был старший разъезда, выпучил глаза. Такого недвусмысленного ответа он не ожидал. Впервые за всю войну ему не кланялись, не просили пощады, как милости, а (он не мог этому поверить) требовали убраться с дороги.
– Ах ты, кулачка, чертово отродье, – побагровел он, униженный и за армию Буденного, и за себя, красного казака в ней. Он тяжело положил руку на эфес шабли и крикнул своему разъезду:
– А ну, хлопцы, выкиньте ее геть из повозки!
Что тут началось! Анна хваталась за бидарку, кричала, царапалась, кусала ухватившие ее руки. Но крепкие хлопцы вытащили ее на дорогу и оттеснили гарцующими лошадьми.
– Чертова баба, – лаялись они, потирая искусанные и оцарапанные места. – Дать бы ей плетей, да Буденный узнает, ругаться будет.
Впряженного в бидарку жеребца ухватили за уздечку, второй побежал сам, и ускакали, не обращая внимания на вопли ограбленной.
Анна отошла с дороги, приткнулась к чьей-то ограде. Ноги не слушались ее, подкашивались, и она бухнулась на землю. Ускользнула от нее жар-птица. Поласкалась, погрела душу привалившим счастьем и улетела. И от такой несправедливости слезы еще больше катились по щекам. Худые плечи вздрагивали, а сама она закрыла лицо руками, чтобы не видеть враз опротивевший ей весь белый свет.
Кто-то подошел к ней и стал напротив. Анна не хотела поднимать голову. Кому дело до ее горя? Разве найдется такой человек, который может помочь ей?
– Жиночка, я все видела. Иди до самого Буденного. Эти бусурманы без его ведома творят, шо хочют, а он из простых казаков, пожалеет.
Голос был тихий, ласковый, и Анна оторвала от лица руки. Перед ней стояла таких же, как и она, лет женщина в короткой из серого сукна кацавейке, отороченной снизу мехом. Глаза у нее были добрые, светились сочувствием.
– Вы правду кажэтэ? – Анна не могла прийти в себя от потери лошадей и потому во всем подозревала подвох.
– Правду, жиночка, правду.
– А дэ ж його шукаты, того Буденного? И хто вин такый?
– Семен Михайлович. Запомни – Семен Михайлович. Он самый главный среди казаков. А шукать его не надо. Он недалеко. Иди на станцию. Там на железных рельсах стоят вагоны. Спросишь, в котором из них штаб. Скажи – по срочному делу.
– А як же я впизнаю Сэмэна Мыхайловича? Зроду не бачила його.
– По усам, жиночка, по усам. Таких красивых усов ни у кого нет.
Анна шла в указанном направлении и чем ближе подходила к железнодорожной станции, тем больше встречалось ей казаков. Они верхом разъезжали по улицам городка, стояли привязанные у дворов их кони, повсюду слышен был гомон, смех, крики. Ее никто не останавливал, не обращал на нее внимания. Да и кому нужна была теперь она, безлошадная.
У железных путей окликнули. Два красноармейца со штыками за спиной преградили ей дорогу.
– Куда прешь, баба. Не видишь, войска стоят. Не положено здесь ходить гражданским.
– У мэнэ дило до Сэмэна Михайловича, – вспомнила подсказку незнакомой женщины Анна.
– Какое такое дело у тебя до самого Буденного?
Между красноармейцами и Анной завязалась перепалка. Анна стояла на своем. Ей придавало смелости то, что кроме Буденного, по словам женщины, никто не поможет ей. А кони… Ах, как нужны были ей кони!
Вокруг них стали собираться конармейцы. Они с любопытством разглядывали невесть откуда взявшуюся здесь молодайку.
– А зачем тебе Буденный, – спросил подошедший казак, горделиво выпятив грудь и выставив вперед ногу. – А я хиба не сгожусь? Поглянь на мэнэ.
– Ни, ты плюгавый и без вусив. А мэни з вусами трэба.
Собравшаяся толпа так грохнула весельем, что на спинах красноармейцев запрыгали штыки.
– Вот это баба! Вот это баба! – смеялись они. – А кроме усов тебе так-таки ничего и не надо? – играя глазами, допытывались они.
И опять хохот, да такой, что не выдержавшая буйного напора дверь стоявшего напротив казаков вагона отворилась, и в ее проеме показалась статная фигура Буденного. Он был в белой исподней рубахе, военного покроя голубых брюках и хромовых сапогах. Через плечо висело полотенце, а в правой руке он держал раскрытую бритву. Шум тотчас стих, и все уставились на своего командира.
– Ну! – повелительно произнес он. – В чем дело?
– Да вот, – кивнув на Анну, пытался объяснить охранявший вагон красноармеец, – говорит, что имеет срочное дело к Буденному.
Семен Михайлович коротко приказал:
– Пропустите ее.
Анна, перешагнув рельсы, приблизилась к вагону.
– Говори, что привело тебя сюда.
– Сэмэнэ Мыхайловичу, та як же цэ воно так, конэй моих вдэнь сэрэд вулыци видибралы геть, як роздилы пэрэд усима, – жаловалась Буденному Анна.
Казаки заулыбались, перешептываясь:
– Хороша была бы в баньке раздетая, ах, хороша!
Командарм нахмурился. По лбу побежали морщины, глаза блеснули острым стальным клинком.
– Правду говоришь?
– А то як жэ. Маты з дытынства вчила нэ брэхаты.
– Кто? – гаркнул Буденный. Конармейцы замерли, шепот прекратился, слетели улыбки, потупились головы.
– Кто, спрашиваю? Два шага вперед – марш!
Из толпы понуро вышел переплетенный кожаными офицерскими ремнями казак.
– Я, батька. Лошади до зарезу нужны. Раненых возить нечем.
– Я не батька тебе, а командир, а ты не в банде, а в Первой конной армии красных казаков. Понимаешь разницу?!
– Сэмэну Мыхайловичу, головнэ забула, – и Анна полезла за пазуху.
– Что еще?– тревожно спросил он, боясь, что проступок казака окажется еще хуже.
– Ось, – протянула Анна сложенную в несколько раз бумажку, – мий чоловик служыть в Червоний Армии. Нэ знаю, живый вин, чы ни. Оцю справку далы мэни в сильради.
Буденный взял справку, бумага еще хранила тепло женской груди.
– Вот так, – подытожил он, – чтобы расспросить, узнать, кто перед тобой, поладить миром, ты, Петро, – зыркнул на казака он, – шашкой махать. Надавать бы тебе нагайкой, да порядки у нас советские, не буржуйские.
– Тебя как зовут? – спросил он женщину.
– Ганна.
– Откуда ты? Вижу, что не здешних краев.
– З сэла Иванивка, з шахтарського краю биля Криндачевки. Шлях вздовж нас на Дон йде.
– А сюда как попала?
– Конэй прыйиздыла купуваты, – не стала врать Анна.
– И этих коней у тебя отобрали?
– Цих.
– Вот что, Анна. Понимаю, хозяйство без лошадей – не хозяйство. Поживи у нас день-два. Улажу твое дело.
– Правда? – обрадовалась Анна.
Но ее радость тут же сменилась недоверием. «Миг бы видразу виддаты конэй, воны ж дэсь тут нэдалэко», – не верила она Буденному.
– Командарм наш никогда не обманывает, – почувствовав сомнение Анны, уверяли ее сразу несколькими голосами молчавшие доселе казаки.
Свет не без добрых людей. Анна отыскала знакомую ограду, у которой, сидя на земле, рыдала после того, как лишилась лошадей, постучала в калитку. Вышла утешавшая ее женщина. Она улыбнулась, как старой знакомой. Расспрашивать не стала. По спокойному, разгладившемуся лицу Анны поняла, дела у той пошли на лад.
– Проходи, заночуешь у меня, – коротко предложила ей.
Следующий день с утра и до полудня Анна бродила по улицам Батайска, разглядывая каменные дома, – не чета ее мазаной глиной хате, горделивых, уверенных в себе казачек, струнких казаков. Зашла в церковь, преклонила перед святыми ликами голову, поставила свечку.
Но в душе не было успокоения. Перед нею неотступно стояло одно, – «виддадуть конэй, чы ни».
Измучившись, сама не понимая, как это вышло, Анна очутилась на станции. Состава и того вагона, из которого с ней разговаривал Буденный, не было...
Продолжение далее...
Сообщение отредактировал Evgeniy - Вторник, 19 Мар 2013, 17:37 |
| |
|
|
| pakhnushchy | Дата: Вторник, 19 Мар 2013, 21:07 | Сообщение # 8 |
 Долгожитель форума
Группа: Друзья
Сообщений: 2154
Статус:  | 
Александр Пахнющий
|
| |
|
|
| Evgeniy | Дата: Среда, 20 Мар 2013, 09:03 | Сообщение # 9 |
|
Группа: Удаленные
| Анна (продолжение)
Это подействовало на Анну так сильно, будто неожиданно и с головы до ног ее окатили ледяной водой. Оборвалась последняя ниточка надежды, ноги стали чужими, ватными, и она опустилась на рельс. Долго ли нет, сидела бы так бесчувственно и неподвижно на нем, уставившись пустыми глазами в землю, но ее окликнули сзади.
– Эй, ты, чего уселась тут! Не скамья, чай. Не положено. А ну как паровоз иттить будет, задавит. Мне отвечать за тебя не с руки.
Это был тот самый красноармеец, который вчера охранял вагон Буденного. Анна признала его, да и он ее тоже.
– Это ты? – удивился красноармеец. – Где шляешься? Тебя давно ищут. Спрашивали мя, не появлялась тут, не видал?
– Хто шукае? – у Анны появилась вдруг слабая, но такая сладкая, неожиданная надежда. Зародившийся внутри теплый ком захватил ее всю, стал шириться, подыматься выше и, наверное, достиг глаз, потому как на них навернулись слезы. – Буденный?!
– Ишь ты! Каждого дня Буденного ей подавай. Нет его, уехал. У него делов не то, что у нас с тобой. Поболе.
Сердце сжалось. Мелькнула на миг и тут же исчезла последняя светлая искорка, высохли глаза, окаменело лицо. Трэба якось добиратыся до дому. Диточкы́ ждуть.
– Пошли, я отведу тебя.
– Куды? – безучастно спросила Анна.
– Куды, куды. Увидишь там.
В конце станции в стороне от железных путей стояло двухэтажное здание из красного кирпича. Это был железнодорожный вокзал. Сейчас его занимали военные, и у входа прохаживался часовой с винтовкой. Напротив у коновязи топтались привязанные лошади, и Анна оглянулась – нет ли среди них ее жеребцов. Нет, ее жеребцов здесь не было. Тут же стояли два черных до синевы кастрированных быка, запряженных в четырехколесную повозку. Шеи у быков были могучие, толстые, только-только охватить руками, глаза круглые, как блюдца, а широкие лбы – ни дать, ни взять две квадратные чугунные сковородки.
На передке телеги сидел казак. Увидев ладную, приостановившуюся было перед быками молодайку, он прищурил один глаз и озорно подмигнул ей.
– Тю, – бросила ему Анна и заспешила за красноармейцем.
На втором этаже в комнате за столом, заваленным бумагами, сидел в очках пожилой мужчина в военной форме.
− Начальник коне запаса, – шепнул на ухо Анне ее провожатый.
− Хто, хто? – не слышавшая никогда такого слова, переспросила Анна, но пожилой мужчина поднял от бумаг голову и спросил ее.
– Ты Анна, из Криндачевки?
– Ни, я з Иванивки.
– Лошадей у тебя забрали?
– В мэнэ.
– Так чего морочишь мне голову? Волов видела у привязи?
– Бачила.
– Нравятся тебе?
– Гарни волы.
– Ну и забирай. Паши дома землю.
– Як цэ? Воны ж чужи.
– Были чужие, теперь твои. Армия без лошадей, это не армия. Не обессудь. Еще и провиант получишь. На дорогу.
На улице Анна по-хозяйски обошла вокруг волов и телеги. Она еще не до конца верила в удачу. Сейчас кто-то выйдет из этой кирпичной хаты и посмеется над ней. «Тю, дура, то ж пошуткувалы трохы з тэбэ. А ну йды звидсы».
И действительно из высоких дверей вокзала вышел уже хорошо знакомый ей красноармеец и еще двое с ним. На себе они тащили мешки.
– Держи, Анна, – и стали класть их в телегу. – Это тебе на дорожку.
– Що цэ? – спросила она, уловив сытный запах печеного хлеба.
– Мешок хлеба, мешок таранки и полмешка сала, – отвечали красноармейцы.
Провожал Анну казак, который давеча подмигнул ей с телеги. Теперь они сидели в ней рядом, а волы, не спеша, как и положено таким солидным животным, шли по улицам Батайска.
– Довольна? – спросил он Анну.
– Авжеж, спасыби товарышу Буденному.
– Он у нас строгий командир, но справедливый.
У переправы по всему берегу копошилось, как муравьиная куча, море людских и конских голов. Мосты были разрушены, и наведенные понтоны не успевали пропускать через себя всю массу желающих пересечь Дон.
Стоял шум, гам, слышно было громкое ржание лошадей. Кто-то звонко и гнусно порочил богородицу. Сотни конских копыт нетерпеливо переминались с ноги на ногу. Черные квадраты телег тесно скучились в ожидании въезда на понтонный мост. Над толпою и Доном катило оранжевое солнце.
Казак правил волов в самую гущу телег. Потесненные лошади всхрапывали и косили налитые кровью глаза на запряженных быков. Мужики, ошарашенные такой наглостью ездового, таращили зенки, крикливо осеняли казака и сидевшую с ним рядом Анну матом.
– Куды прешь?! Ополоумел, что ли?! А ну поворачивай оглобли назад!
– Ша, мужики, – спокойно отвечал казак. – У меня приказ самого Буденного. Военное дело.
– Како-тако, твою мать, военное дело? – не хотела успокаиваться вкрай разозленная толпа, воинственно окружив и телегу, и волов. – Отродясь такого сраму не видано, чтобы баб за собой на войну таскали. А ну зовите начальника, пущай с ентим охальником разберется.
Появившийся на гвалт мужиков начальник переправы потребовал с ездового казака документ.
– А ну покажь, сам писал, али как?
– Во-во! – радовались справедливости вокруг. – Самозванец! Вор! Плетьми его!
Начальник долго читает написанное, зачем-то переворачивает, смотрит на обратную сторону, подымает голову и говорит:
– Бумага настоящая. С печатью и подписью самого Буденного.
Толпа разинула рты, недоверчиво глядит на руки, в которых эта чертова бумага, сопит, но помалкивает.
− Ежели от самого Буденного...
– Потеснитесь мужики, потеснитесь, – командует начальник переправы. – Пропустите возок. Дело военное.
Слышится храп потревоженных лошадей, телеги наезжают друг на друга, трещат сцепившиеся деревянные брусья, кони шарахаются, крики людей, и из толпы летит изрыгнутый из самой утробы чей-то раненый стон:
– Э-эх, святая богородица...
На самой переправе казак спрыгивает с телеги.
– Ну, баба, дальше поедешь одна. Счастливой тебе дороги. И не держи на нас зла.
– Та якэ зло. Спасибочки тоби й товаришу Буденному.
* * *
С Кубани ватага возвращалась поодиночке. Кто нышком, несолоно хлебавши, ни с чем, задворками, боясь насмешливых глаз, кто на худющей коняге, – отко́рмится дома за лето!
Посчастливилось лишь Анне. Только и разговоров было о ее быках. А вскоре и муж вернулся с войны. Вчистую. Теперь у нее было все – волы, хозяин, он же и пахарь.
Но больше всех удивил Федор Носко. Такого животного здесь не видел никто. Слышали, конечно. Но видать – нет. Сбежалось все село.
Оно, надменно задрав узкую с отвислыми губами голову, двигая челюстями, важно перебирало землю мелкими шажками. Всем видом говорило о своих достоинствах и низменных интересах встречавших его людей.
Федор сидел меж двух горбов и с высоты поглядывал на селян. Подошвы его сапог задевали шапки приблизившихся к верблюду мужиков.
– Федор! – окликали его.
– Дядьку Фэдир! – кричали ему дети. – Покатай нас трохы.
– А как слазить будешь? Чай, лестницу-то забыл прихватить, – хохотали с чистого представления.
Несколько дней Федор ладил плуг. Кое-что пришлось переделать – ишь, как вымахало оно ростом! Каланча!
Но все получилось ладно, и верблюд тянул плуг не хуже любой лошади. Это был единственный такой экзотический случай в Ивановке. И во всей Украине. Верблюд пахал землю. Не верите? Вот вам Крест!
Евгений Рудов[/size]
Сообщение отредактировал Evgeniy - Среда, 20 Мар 2013, 20:02 |
| |
|
|
| konstantin | Дата: Суббота, 21 Дек 2013, 16:25 | Сообщение # 10 |
 Зашел почитать
Группа: Постоянные авторы
Сообщений: 58
Статус:  | Очень понравились ваши рассказы. Интересный слог. Приглашаю в гости. Удачи вам и вдохновения!
|
| |
|
|
