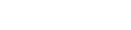Лена старше меня на два года. Она учится на третьем курсе на филологическом факультете. Мы соседи. Ее балкон – на третьем этаже. А я живу этажом ниже.
- О, Жан! Привет! Поставь битлов, а! - перевешивается она через перила балкона, и ее длинные волосы ниспадают вниз золотистым водопадом.
Я смотрю ввысь. Ее стройные ноги уходят вглубь ее халатика с белыми драконами. Далеко уходят. Моя голова начинает кружиться...
Мы не знаем – как высоки -
Пока не встаем во весь рост –
Тогда – если мы верны чертежу –
Головой достаем до звезд.
Обиходным стал Героизм,
О котором Саги поем -
Но мы сами ужимаем размер
Из страха стать Королем.
Это стихи Эмили Дикинсон прочитала мне Лена.
Она тоже пишет стихи. Они немного похожи на стихотворения Эмили, такие же импульсивные строки, беглые, нервные, - и тире точно в торопливой задышке. И одно из ее стихотворений я напел на магнитофон.
Лена знает, что я люблю ее.
Однажды, когда моих родителей не было дома, мы с ней слушали «Белый альбом», попивая легкое белое вино. Лена была веселой. И мне хотелось длить и длить эти невыразимые мгновения счастья. Я взял гитару и стал подыгрывать битлам. Что только не вытворял я с гитарой! И Лена, в легком сарафанчике, вся загорелая, хохотала, нервически откидывая голову с распущенными по плечам волосами. Такой красивой я еще никогда не видел ее. И я сказал ей: «Знаешь, Лена, в твоем лице, в твоих губах, единственных из миллионов, есть что-то вечное. То, что заполняет ранящую дыру во мне, с которой я родился». Не справляясь со своей любовью, я хотел упасть перед ней на колени и сказать уже напрямую: КАК Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ. Но в этот момент зазвучал «Блюз для тебя», и она, проведя рукой по моей голове, встала с кресла и начала танцевать, кружась по комнате.
За открытой балконной дверью ворчал гром. Синие электрические вспышки молний выхватывали из сумрака ее обнаженные руки, бледное лицо с полуприкрытыми глазами. Я пригласил ее на танец. Мы топтались, дружески обнявшись. Но при этом были как два магнита, поля которых должны были совместиться – так близко они подошли друг к другу, - но этого не происходило. И напряжение росло. Мне казалось, что в атмосфере скопилось все электричество мира, готовое вот-вот разрядиться. И взрыв раздался.
Точно залп из ста тысяч орудий флагмана, ударил гром. Хлопнула балконная дверь. Зазвенело стекло. И Лена выскользнула из моих объятий.
Мы выбежали на балкон и задохнулись...
Это был сплошной ливень, гром и молния! Дождь словно сетью, охватил весь мир. Надев ходули, ливень шагал по улицам и переулкам, затопляя их бурлящими потоками, по которым неслись машины, освящая фарами целые реки.
- Riders of the storm, - пропел я голосом Джима Моррисона, и мелодия оторвалась и улетела с ветром.
Мы что-то кричали друг другу. А удары грома продолжали сотрясать небо. Казалось, еще один такой залп, и все рухнет, все разлетится в тартарары на отдельные атомы, частицы, и уже ничего больше не будет, и уже ничем и никогда нельзя будет собрать и соединить воедино куски людей, вещей, явлений. Но вдруг все разом оглохло...
- О, боже... Смотри! – вдруг закричала Лена, показывая рукой на бушующее небо.
Я взглянул в небо и почувствовал, как в моих жилах леденеет кровь.
Это было Чудовище. Такого ужасного лица, созданного нагромождениями черных клубящихся туч, мне еще не приходилось видеть. С пылающими жутким светом глазами и с разверзнутой пастью, из которой бил такой же адский огонь, на нас смотрел сам Дьявол, парализуя волю картиной своей безграничной властью. Тоска сжала сердце...
- Мне страшно, - прошептала Лена и прижалась ко мне всем телом.
Ее бил озноб.
Я закрыл балкон и, как какой-то киногерой, поднял ее на руки, положил на кровать и стал целовать. Мы боролись. Мне казалось, стань мы единым целым, и мир, раскалываемый громом на куски, будет спасен...
- Не надо!.. - вдруг сказала она. Потом заплакала.
Я сел спиной к ней, закурил.
- Ох, какой же ты еще ребенок! – обняла она меня за плечи и поцеловала в затылок, как мать или старшая сестра: – Ой, мокрым сеном пахнут...
Я молчал, разыгрывая обиду. В груди и вправду саднило. Но где-то в глубинах души, в одном из ее уголков, уже приподнимался под обломками, встряхивался ангел, тихо радуясь, что его небесная подруга сохранила крыла, а дурак, которого он охраняет, то бишь, я, не навредил себе.
- Лена, прости, - сказал я. – Сам не знаю, что на меня нашло.
- Проехали, - сказала Лена. - Ты, мой лучший, самый, самый лучший друг, каких у меня никогда уже не будет, и я не хочу тебя потерять. Но ты живешь, как на войне, Ванечка. Навыдумывал чудищ, и воюешь с ними, а они только в сказках бывают. Смотри, вон солнышко из-за туч выглядывает. И где дьявол? Это игра природы. Просто ужасное совпадение.
- Это не совпадение, - сказал я. – Война давно идет на земле. Только слишком мало людей видят и слышат это. Да и как, кому это объяснишь?
- А ты напиши книгу «Моя война», или что-то в этом роде, - сказала Лена. – Или лучше сказку «Как Иван Чудище завалил».
- А эта мысль, - сказал я. – Я напишу рок-оперу.
И внутренним взором увидел себя, лежащим под дубом – после битвы - с раной в груди, и как Лена, проходя мимо, говорит своей матери: «Бедный Ваня, может, он не был таким дикарем, каким казался. И ему было больно и очень страшно умирать. Но он умер и за нас, мама!»
...Лена убегает, стуча каблучками.
А меня сжигает пламень. Этот огонь любви намного глубже, сильней и страшней всех прочих огней и моих фантазий, полыхающих в моей груди. Он изнуряет меня. И порой я не нахожу себе места от предчувствия еще неизведанного счастья, если бы Лена... Но это – без шансов. У нее есть парень. Зовут его Вадим.
2
Вадим ее сокурсник. Он похож на красавца Роберта Планта из Led Zeppelin, но к року он не имеет никакого отношения. Его кожаные куртки, фирменные джинсы, весь этот дорогой прикид, лишь банальный образец мимикрии. Придет время и он скинет свою рокерскую куртку, как надоевший до чертиков временный камуфляж, и с удовольствием облачится в костюм бизнесмена. Он сам однажды говорил мне, хорошо поддатый:
- Главное, вырваться за кардон, а уж там ... Я потревожу ихних шулеров, как поет Высоцкий!
- А Лена? – сказал я.
- Что Лена? – сдвинул он свои красивые брови к переносью, и в его синих холодных глазах вспыхнул злой огонек.
- Ну, ты за бугор, а Лена?
Вадим расхохотался, но глаза у него сузились, как у волка, готовящегося к прыжку.
- А это, пацан, не твоего ума дело. Понял?
Я не терплю даже малейшей насмешки над собой, и мой загривок мгновенно ощетинился, я незаметно выпустил когти. Но, видно, Вадим что-то почувствовал.
- Я люблю ее, - сказал он серьезно и скромно. – Она поедет со мной.
Зверь во мне сжался, улегся, положив морду на лапы, я разжал кулаки. Да, что там говорить, в уме и прагматизме Вадиму не откажешь. Плюс - охраняющие крылья его высокопоставленного отца, под которыми он живет. И хотя он поносит державу, на чем свет стоит, и во многом прав, когда говорит, что такое, как сейчас, творилось только в период загнивания уже не существующих аристократических и абсолютных монархий, - он плоть от плоти детеныш системы. Я это понял, когда он однажды сказал мне, снисходительно похлопав по плечу, что система, которую мы, бунтари без идеала, хотим разрушить, не стена, а дорога наверх. К славе, к богатству. И только глупцы этого не видят. И не используют этот шанс. Короче, угождай системе, не зли ее, не дразни и сможешь добиться многого. У Вадима есть все, о чем только можно мечтать: от американской стереосистемы до «байка», на котором он увозит Лену на остров Комсомольский, где за высоким бетонным забором с надписью «вход воспрещен» возвышается дача его отца, похожая на дворец. Девчонки сходят по Вадиму с ума. Но Лена? Почему она-то не видит, что за могучим взором его холодных глаз - пустота.
Но сколь Вадим не пуст в своем существе, он все же владеет реальной силой. Мне всегда приходится напрягаться в его присутствии, все время внутренне сопротивляться против него. Чтобы не поддаться его чарам, как поддалась Лена, и не сбиться с пути. Но, возможно, я преувеличиваю, наделяя его демоническими чертами. Ведь Лена любит его, а не меня. И я, конечно, ревную и потому никак не могу быть объективным в отношении него. Тут нужны чистые руки и холодная голова. Чудовище, которое во мне сидит, только того и ждет, чтобы схватить тебя акульей хваткой и столкнуть в бездну. И столкнуло.
3
Я лежал на кровати лицом к стене, горюя по брату, когда пришла Лена.
- Давай, поднимайся, – сказала она, погладив меня по голове. - Сегодня в Доме культуры вечер поэзии. Поможешь мне написать отчет.
И как я не отнекивался, Лена все же вытащила меня из дома.
На такое мероприятие я попал впервые. В зале почти не было молодежи. Дяди и тети по очереди выходили на сцену и читали свои опусы.
Стихи так называемых непрофессиональных авторов вызывали во мне множество чувств, но мне становилось только хуже. И во мне копился протест.
На сцену вышел очередной поэт. Плотный дядя с благородной, что называется, сединой на висках, и с многословием честного простака объявил, что он-де вовсе не поэт, а стихоплет. И зал взорвался аплодисментами этому признанию в собственной глупости. Свой садово-огородный опус «Дачник» господин Стихоплет читал бесконечно долго, истязая, главным образом, тех, кто еще не выступил и, волнуясь, ждал своего выхода на сцену. «Какой дачник? Почему – дачник?» - тупел я умственно, душевно и физически. И хотелось крикнуть: «У меня брат умер, и мать от горя слегла! И я не знаю, как и зачем жить?». Но я уже приучил себя сдерживать приступы отчаяния и не дергаться.
Гаврилиаду о дачнике сменило бесконечное, как веретено, женское рукоделие. Поднялась на сцену учительница из нашей школы. Что-то о зорьке, о чарующих закатах и соловушках, которых кто-то очень любит слушать всю ночь, сидя в камышах. Лицо литераторши, обычно надутое, теперь светилось экстазом вдохновения, и как это не вязалось с той загустевшей скукой, которая царила в классе на ее уроках по русской литературы. И я не выдержал, засопел: «Лена, я пойду, очень курить хочется» Но Лена удержала меня: «Потерпи, будет перерыв – вместе уйдем».
Я остался. И вытащил из памяти стихотворение Джеймса Дугласа Моррисона «Широты лошадей». Так назывались экваториальные штильные полосы, в которых застревали испанские корабли. Это место бесконечного удушливого штиля, где опадают паруса, утомляется человек, и неподвижный горизонт так недосягаем, что поражает волю и притупляет мысль. Чтобы облегчить судно, морякам приходилось вываливать за борт подыхающих рабочих лошадей, которых они везли в Новый Свет. Обезумевшие от голода и смрада, матросы подводили их к краю, а лошади начинали метаться из стороны в сторону и лягаться. Это было для всех настоящей пыткой - наблюдать за этим: как с огромными глазами, выпирающими ребрами, с неестественно длинными ногами лошадь падает в море, еще некоторое время плывет, а затем теряет силы и просто идет ко дну... медленно тонет... А ветер по-прежнему встречный, и уже кончилась пища, и кончилась пресная вода... Вот о чем было это стихотворение. И меня вдруг пронзила мысль: как бы осмысленно, умно и благородно я ни научился жить, все равно я навек обречен - бродить одиноким скитальцем среди тех, чей мир не распространялся до параллели подыхающих лошадей.
От этой мысли мне стало совсем тяжко.
Из комы меня вывела Лена: «Ванька, очнись!..». Оказывается, меня заметила в зале учительница по литературе. Продолжая пребывать в экстазе вдохновения, она обращалась ко мне, чтобы я прочитал свои стихи.
- Мы же знаем, что ты играешь в ансамбле. И пишешь песни.
Я извинился, сославшись на то, что тексты для песен, это не стихи.
- Уж где-то, в подворотнях, они такие смелые, - бросил какой-то тип с унылым лицом старого козла.
Какая-то темная сила подбросила меня с места. И, как в бреду, вышел на сцену. И еще больше злясь на себя, нервно стал читать «Широты лошадей», объявив, что это стихи Джима Моррисона, американского поэта, лидера группы «Двери». Читал я плохо, нервно, дергано. А после, как молитву во спасение, еще одно из его стихотворений, но уже чуть не плача:
Благодарю тебя Господи
за это сокровенное белое сияние
огромный город встает из-за моря
у меня ужасная головная боль
из которой соткано будущее...
В зале царила гробовая тишина. Я сел на место. Лена положила свою руку на мою. Ведущая вечера, местная поэтесса, задумчиво поправила очки на своем носике и сказала с обидой в голосе, что такие, мол, извините за выражение, стихи она могла бы писать по десятку в день. По залу прокатилась волна одобрения. Дяди и тети словами и мимикой выражали ей свою солидарность:
- Эту молодежь надо еще учить да учить...
- Взяли моду: секс, тоска... Кто он, этот Моррисон?
- Это ж, белые стихи, - сказал кто-то.
- Это сбор крестов по могилам, а не стихи...
- Ясное дело, раз их писал наркоман, - бросил унылый тип.
Тут-то во мне и шевельнулось Чудовище.
- Только Моррисона, пожалуйста, не трогайте! - крикнул я.
Злость застилала мне глаза, пульсировала в висках.
Я поднялся с места.
- Вам что мало Лермонтова, которого вы убили!
И покатило, и поехало. Я припомнил им Бродского.
- Не вы ли добронравные мещане упекли его на пять лет в лагерь, а потом лишили родины, навечно разлучили с отцом и матерью!
Вспомнил Высоцкого, задохнувшегося среди бездарностей от копеечной культуры.
- А Тарковский? – кричал я. – Где его фильмы! Не с вашего ли молчаливого согласия они исчезли с экранов! Серость никогда не признает гения, пока он жив! Искалечить – о, это мы умеем. А потом, когда он умрет от тоски среди вас, вы ему памятник на могилу... Но даже мертвый он напоминает о вашей серости... Представляю, как вы кудахчете, откопав какую-нибудь мерзость о том или ином творце в его дневниках, как радуетесь слабостям того, кто был выше вас...
- Вызовите милицию! - крикнул кто-то.
Я хотел уйти, но вдруг заметил, как один мужик, тренер из детской спортивной школы, бичевавший в своих стихах быт студенческих общаг, идет ко мне, проявляя признаки тупой агрессии.
Мне вдруг стало весело.
Я раскинул руки точно распятый, не преминув поактерствовать. И вдруг встретился с темными глазами Лермонтова (портрет на стене). Мне показалось, что Лермонтов смотрит на меня с пониманием и сочувствием...
Волосатые руки «качка» схватили воздух. Я вынес правую руку, чтобы ударить левой, но в этот миг на моей руке повисла Лена. Я даже не подозревал, что она такая сильная.
Потом мы с Леной сидели на каменных ступенях амфитеатра Набережной, и пили из горлышка дешевое болгарское вино. Быстро сгущались сумерки. От реки, потерявшей свои границы, несло холодом.
- Люди есть люди, - отчитывала меня Лена. - И если они не понимают того, что понимаешь ты, это еще не повод возноситься над миром. В противном случае, грош цена твоей одаренности...
Лена была, конечно, права. Так-то я стремлюсь к спокойной всепрощающей мудрости, к нравственному совершенству, к Дао и Дэн! Но вино сделало свое дело. Демоны разрушения покинули меня.
- Лена, почитай что-нибудь? – попросил я.
Нам никогда не вернуться в Элладу
Наш потонет корабль, ветер следы заметет, -
продекламировала она со вздохом.
Мое сердце сжалось.
- Это твое?
- Нет. Это Константин Вагинов. Питерский поэт, хорошо забытый...
- Лена, - только и смог выговорить я.
- Что? – сказала она, задумчиво глядя в черный поток реки с разломанными зигзагами береговых фонарей.
И тут меня прорвало. Впервые я заговорил о том, что я чувствую себя чужаком среди людей. Что мне, вообще, не хочется так жить. Потому что я не вижу смысла своего существования. А жить без веры в возможность совершенства, не могу и не хочу. Я говорил о том, что не могу больше ждать ее, все время ее ждать. Торопить дни: чтобы они поскорее прошли, пропали. И получается, что моя любовь соприкасается одной гранью со смертью, я как бы стремлюсь приблизить конец. Что она для меня высшая ценность, и любовь к ней – моя главная роль на Земле, ради чего я и родился. А между тем я вынужден все время играть другие роли, мне не свойственные, то клоуна, то хулигана...
- И мне иной раз кажется, что вся моя жизнь – сон. Знаешь, как в «Blues» у Джимми Хендрикса:
Проснулся утром, не заметив, что умер, -
Пропел я, дурачась, чтобы скрыть слезы.
- Я не знала, что ты такой, - сказал Лена, положив мне на плечо свою голову.
Голос у нее был низкий до хрипоты.
- Какой? – выдохнул я.
- Глубокий.
- Да уж, - сказал я, сглотнув ком в горле.
- Вот, скажи, если бы твоя девушка забеременела, чтобы ты выбрал - ребенка или все золото мира? – нервно засмеялась она.
Я сказал.
- Ясненько. Я и не сомневалась, что так ответишь.
- А что? Есть другие мнения?
- Давай-ка еще по глоточку, - сказала Лена осевшим голосом.
Мы выпили. И Лену вырвало.
- Пойло, - сказал я и зашвырнул недопитую бутылку в реку.
- Это не пойло, - сказала Лена. – Вино не при чем.
Только тут до меня дошло.
- Лена, - сказал я, помертвев. - Все будет хорошо. Вадим тебя любит, он мне сам говорил.
- Ничего больше не будет, - сказала она, глядя как бы сквозь меня, куда-то в темноту, будто в вечность. – Вадиму важней карьера, чем ребенок.
И Лена заплакала.
Я дал ей сигарету, а сам спустился по ступеням к самой воде, сел на корточки.
Черное тело реки вскипало волнами, будто живое. Я смотрел в воду. Что, там, в глубинах, под черным покровом? Какие миры? А вдруг и там, в иных мирах, такая же бессмыслица, что и здесь, на земле? От душевной усталости нахлынули безнадежные, мрачные мысли. Раньше у меня были чаяния и ожидания, вера и вызов крылись в моих текстах. Теперь не было ни того, ни другого, ни третьего...
- Господи, помоги ей, - сказал я, думая о Лене.
Вода лизнула ноги. Но вместо того, чтобы отодвинуться от края, я как клоун, который все портит в самый ответственный момент, приблизился к воде, затопившей ступени, и, сидя на корточках, стал покачиваться с носков на пятки... Тяжелая, как чугун, голова опережала мысль. Я тупо увеличивал амплитуду...
Очнулся я в воде. Какое-то мгновение между падением и намоканием одежды, я, видно, был действительно мертв. Тяжелым намокшим мешком течение несло меня вдоль парапета. Потом в мозгу мелькнуло: вот она – смерть героя. Но это тотчас прошло – как только я заметил, что течение стало относить меня к стремнине. Мгновенное отрезвление, и я бешено колочу по воде руками и ногами... Не знаю, как мне удалось перебить поток и достичь парапета. Цепляясь пальцами за бетон, изъеденный ледоходами, я с трудом выбрел против течения к ступеням набережной. Лена стояла по колено в воде, держась рукой за торчащую из бетона арматуру. Она подала мне руку.
-Ты что удумал? – выбивая зубами дробь, проговорила она.
Мы стояли крепко обнявшись.
- Лена, давай уедем, - сказал я, чувствуя себя пустым.
- Давай... Давай, Ванечка, уедем! Только куда?
- Я знаю остров, - сказал я.
- Остров невезения?
- Нет. Это звезда между небом и адом, упавшая в море.
- Домой, домой, - испугалась Лена за мой разум. - Лечить душевные раны.
Душевные раны мы лечили горячим чаем с медом, которым нас отогревала мать Лены, Эльвира Алексеевна, интеллигентная и молчаливая женщина, не задавшая нам ни одного вопроса: что произошло и почему. А через месяц Лены не стало.
4
Но мне кажется, что она просто уехала. Далеко-далеко. Куда никто не знает дороги. Живет там себе, поживает. И пишет свои стихи.
Я не верю, что она исчезла бесследно. Не потому, что я не видел ее мертвой. Так как в день ее похорон, я ушел в лес и пролежал там, в траве, под деревом, до темноты, холодный и недвижимый, как покойник. А потому, что когда я думаю о ней, то почти физически ощущаю, что она здесь, рядом со мной. Вот и сейчас она здесь. В маленькой комнатушке Дома Культуры, заставленной аппаратурой. На колонке горит свеча, за приоткрытым окном льет дождь, и я под шум ливня наговариваю на магнитофон эти строки. А Лена сидит на стуле за барабанами и внимательно слушает, склонив к плечу голову. Но вдруг за приоткрытым окном вспыхивает молния, и доносится раскат грома, и Лена вздрагивает, глаза ее мертвеют. И, будто спохватившись, что отныне ее дом не здесь, а на небесах, она исчезает.
- Ах, Ванечка, как же тут, на земле, красиво! - вновь возвращается она с обрывком веревки на шее. – А там дождей не бывает. И вдруг смеется:
- Ох, какой же ты смешной. Сидишь тут один в темноте. Как филин. Ты что, совсем разучился радоваться!
Господи милостивый, как же я рад, что она смеется!
И чтобы еще сильней рассмешить ее, я изображаю филина, вложив в этот образ весь свой актерский талант:
- Ух, ух, ух...
- Ох, Ванечка, прости... - стонет Лена, сдерживая приступ смеха.
Глядя на нее, и я начинаю гыгыкать. Судорожные звуки, издаваемые мной, скорее похожи на икоту гориллы, чем на человеческий смех. Но это только подливает масло в огонь. И вскоре мы хохочем вместе. С грохотом падает на пол микрофонная стойка, и мы выкатываемся из комнатушки в коридор, потом оказываемся в актовом зале, где однажды я чуть не подрался с поэтом-физруком. И продолжаем хохотать, катаясь по пустой сцене, как сумасшедшие...
Я бегу за кулисы и врубаю магнитофон, подхватываю Лену и кружу, кружу ее в вальсе, только бы отвлечь ее от мрачных мыслей, отвести от нее беду...
Вот что должен был я сделать в тот день. Когда с деревьев облетели все листья. Тяжело мне вспоминать его. Но кто напишет о Лене, если не я.
А был тот день ветреный, холодный. Я пришел в университет на занятие литературного кружка «Устье», где собирались студенты словесники. Вошла Лена. И в моих глазах закипели слезы. Я не псих. Но со мной так бывает, когда я вижу подлинную настоящую красоту. И вообще, осенью я делаюсь какой-то нервный, все чувствую остро. Да и литературный кружок я стал посещать по одной причине: хотя бы изредка видеть Лену.
Лена пришла с Вадимом. Но вдруг порхнула ко мне, на камчатку.
- Я с тобой, можно?
А Вадим, ухмыльнувшись, упал на стул в соседнем ряду, вытянув в проход свои длинные джинсовые ноги. Сам он не писал. Но на ребят из «Устья» смотрел с этакой тихой усмешкой последнего вседержителя истины. Будто не видел или не хотел видеть в их мучительных попытках познать себя и свое место в мире какой-то смысл, а видел лишь бессмысленную трату душевной энергии, всю тщету жизни, как он по-книжному говорил. Сергей Анатольевич Монахов, руководитель «Устья», неподдельно добрый, побитый жизнью человек, смотрел на человеческую жизнь иначе - как на разворачивание трагедии. Не потому, что мы все умрем, не узнав истины. А потому, считал он, что человек неизменно терпит крах, как только начинает истине служить, распинаясь между землей и небом. Его точка зрения была мне ближе.
Так вот, вошла Лена и неожиданно села со мной.
Меж тем, Монахов, с седой шевелюрой и с прокуренными легкими, убежденно говорил что-то о любовной линии, помогающей писателям раскрыть характер героев. Вадим слушал его с улыбочкой мэтра на тонких губах. К азбучным утверждениям Чехонте (так с его подачи мы называли Монахова) он относился с нескрываемым снисхождением. Я же почти не слушал нашего добряка. Да и Лена, как и я, была нервно-взволнованная. Она часто поправляла свой белый воротничок, выпущенный поверх черного джемпера. Вздыхала, думая о чем-то своем, явно невеселом. Страшась за нее, я думал о том, что вот бы жить вдвоем с Леной где-нибудь на маяке, на берегу океана. Я бы ловил рыбу и обеспечивал бы ее всем необходимым, а она бы беззаботно писала свои замечательные стихи...
- Где ты витаешь, Иван? - вернул меня в класс Монахов.
Высокий, худой, в «ленноновских» очках, одновременно похожих и на пенсне Чехова, он смотрел на меня с таким скорбным выражением, что я устыдился и всем видом попросил прощения.
- Так вот, в этом шедевре, «Легкое дыхание», Бунин лаконично и без особых эмоций поведал о том, как погибла гимназистка Оля Мещерская, - продолжал Монахов, покашливая.
Я посмотрел в окно. Небо было чистоголубым, как весной. Черные деревья в университетском дворе почти облетели...
- Вы помните..., - донесся до меня голос Монахова. - Оля Мещерская записывает в дневнике, что ее соблазнил старый ловелас, друг отца Малютин. Вот что она записала...
Монахов взял томик Бунина и стал читать:
- Я не понимаю, как это могло случиться, я сошла с ума, я никогда не думала, что я такая! Теперь мне один выход... Я чувствую к нему такое отвращение. Что не могу пережить это!
Он сделал паузу.
- Однако пережила... – бросил Вадим, зевнув.
- Не могу пережить это, - значительно повторил Монахов. - А примерно через полгода казачий офицер, как пишет Бунин, некрасивый и плебейского вида... Не имевший ровно ничего общего с тем кругом, к которому принадлежала Оля Мещерская, застрелил ее на платформе вокзала, кха... среди большой толпы народа. Началось следствие. И этот офицер заявил судебному следователю, что Мещерская завлекла его. Была с ним в связи, поклялась быть его женой. А на вокзале, в день убийства, провожая его в Новочеркасск, вдруг сказала ему, что она и не думала никогда любить его. И дала ему прочитать ту страничку своего дневника, где говорилось о Малютине...
- Врал он! – сказал Володя Осипов, студент с филфака. – Шкуру, гад, свою спасал...
- Браво! – захлопал в ладони Вадим.
- Если хотите, Вадим, высказать свое мнение, то мы вас слушаем, - нахмурил брови Монахов.
- Что ж, позволю себе не согласиться с этим юношей, - начал Вадим, взяв мерзкий тон старого профессора из допотопных романов.– Признайтесь, Владимир, что читали вы этот рассказец явно невнимательно. А скорочтение, как известно, к добру не приводит. А если бы наш подающий надежды поэт вчитался бы в текст, то он не мог не заметить факты, говорящие о том, что в заявлении офицера не все ложь. И что Оленька наша весьма расчетливо и обдуманно выбрала себе в любовники казачьего офицера...
- Ну, ты даешь, Вадим, - осклабился Осипов. - По-твоему у них что-то было?
- Да разве в этом дело! – вдруг сказала Лена. – Было или не было. Да хоть и было, и, наверное, было. Ну и что? По-моему, вопрос о нравственности здесь вообще не стоит. Ведь Оля сама говорит начальнице гимназии, что она не виновата в том, что у нее красивые волосы. Она не виновата, что у нее от природы красивые волосы. И ненужно ее оправдывать. Разве в природе есть вина или распутство?
- Хорошо, - сказал Монахов, его серое лицо посветлело. – Очень хорошо. Спасибо, Елена Николаевна. Большое спасибо...
Казалось, он сейчас прослезится. Но встрял Вадим.
- Разрешите? - и улыбка мэтра сбежала с его губ. - Значит так. Путалась ли Оля с офицером? Отвечаю: да. Теперь, Володя, смотри сюда. Оля убита офицером? Убита. Ее дневник остался в шинели убийцы? Остался. Это факты, и отмахнуться от них нельзя, так? Но есть еще один факт. Как ты думаешь, почему Оля пришла провожать этого плебея, ничего не имеющего общего с ее аристократическим кругом? А? Что, ей мало было сплетен о ней? Зачем ей, красавице, так светиться на вокзале, компрометировать себя, давать обывателям пищу для сплетен? Значит, у нее были на то веские причины. Вернее, одна причина. Она отдалась этому плебею только для того, чтобы он увез ее прочь из городишка, где о ней знали все, и о падении ее тоже. Она, бедняжка, думала, что он простит ее. Но не тут-то было. Он прочитал ее откровения, взбесился от ревности и ухлопал ее...
– Тогда зачем она отдала свой дневник этому козлу? – не сдавался Осипов.
- Дневник? – Вадим задумался. - Ну, наверное, чтоб проверить своего будущего муженька на предмет ревности. Вот именно! Короче, чтобы знать наверняка: возьмет он ее в жены или нет.
С видом победителя Вадим откинулся на спинку стула. Я взглянул на Лену. Лицо ее покраснело, губы дрожали...
- Ну что ж, - сняв свои очки и протирая стекла носовым платком, сказал Монахов – Жаль, очень жаль, что ни ты, Володя, ни ты, Вадим, не услышали того, что сказала нам Елена Николаевна. - Но вернемся к дневнику Оли Мещерской...
- Да скучно же, - скривился Вадим. – И наперед известно, к какому выводу мы, так сказать, придем: как ханжеская антигуманная среда затравила полное жизненных сил молодое существо.
И Вадим загоготал.
- Сергей Анатольевич, ребята, простите, - сказала Лена вставая. И выбежала из комнаты.
Я ждал, что Вадим бросится вслед за ней. Но он не двинулся.
- Можно? – поднялся я, подождав еще с минуту.
- Да, да, конечно, - одобрительно закивал головой Монахов.
Я сорвался с места и ... грохнулся на пол, запнувшись в проходе о ногу Вадима.
- Эх, бедолага, - ухмыльнулся Вадим, когда я поднялся.
Загривок мой ощетинился. И я пошел на него, вытянув вперед руки с онемевшими от напряжения пальцами...