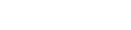Часть II
Главка 3
К полуночи следующих суток, добравшись до станции Раненбург, Михаил с горечью обнаружил, что поезд на Москву, вопреки его изменившимся намерениям, прошел часом раньше. Следующий будет лишь утром. Михаил хотел как можно быстрей попасть в первопрестольную, пробираться окольными путями для него не имело смысла. Теперь мало беспокоило, что чекисты сграбастают его и подведут под распыл. Собственная участь уже не вызывала в нем безотчетного трепета, в душе за какие-то сутки вызрело спокойствие, сродни мусульманскому фатализму: чему быть - того не миновать. Михаил решил идти напролом. Все равно, когда-нибудь придет конец, что не так уж и важно в его волчьем положении. Означало ли это, что он поставил на себе крест, - совсем нет, подсознательно он ощущал, что обязательно выпутается, не может быть такого, чтобы запросто так сгинуть, уйти в небытие.
Да и сами рассуждения о грядущем конце мало занимали, для Облова сейчас первостепенной стала задача: определиться в новом мире, найти свой верный путь. Жить как раньше, а уж тем более бандитствовать, он уже не мог, да и не хотел. Однако он еще не знал, как ему поступить, как жить дальше, но предчувствовал - правильный путь обязательно отыщется.
Потолкавшись в битком набитом неуютном провинциальном вокзальчике, не отыскав места, где можно было притулиться, Облов вышел на перрон. Шел густой снег. Зазимье. Рыхлые пушинки, медленно кружась, плавно ложились на грунт, местами уже образовался пружинящий снежный наст. Ближе к вокзальным дверям, где из-за постоянной сутолоки стояла унавоженная слякоть, снежинки едва соприкоснувшись с землей, тотчас сжимались, сходили нанет. Лицо вскоре стало мокрым, сырость проникала за шиворот, даже в карманы пальто набилась морозная пыльца, зябко тающая, стоило погрузить в нее руку. Подставив ладонь под снегопад, Облов зачарованно наблюдал превращение снежинок в капельки липкой влаги. Удивительная метаморфоза, весьма наглядная - гибель старой и зарождение новой субстанции!
Но лирику в сторону. Облов испытывал настоятельную потребность в отдыхе, но где приклонить голову - не прикорнуть же, как некоторые на вокзальной лавке, не лечь же, в самом деле, на заплеванный, в шмотьях грязи и подсолнечной лузге пол? Михаил решил напроситься переночевать у кого-нибудь на дому. Он хорошо знал, что по сегодняшним временам не так-то просто разжалобить людей, да они и правы, пойди, пусти на ночь приблудного человека, чего доброго изведет всю семью, а там ищи, свищи ветра в поле. Он подошел к станционному рабочему в форменной шинели, возившемуся с сигнальным фонарем. На вопрос Облова о «постоялом дворе», тот к его радости, не проявив удивления, подробно проинформировал: где и как можно заночевать. Михаил заспешил по указанному адресу, благо идти было совсем ничего.
Дверь ему открыла неопрятно одетая, взлохмаченная женщина, отнюдь не заспанная, но по ее заплетающемуся выговору можно было догадаться, что она сильно нетрезва. Облову было не до щепетильности, его даже не пугала возможность очутиться в воровском притоне. Он давно вращался с люмпенами различных сортов, в крайнем случае, барабан его револьвера опять под завяз, да и поставить себя он умел в любом обществе.
Пройдя вовнутрь помещения, Михаил смекнул, что попал в обыкновенную третьеразрядную привокзальную ночлежку. Везде - на двухъярусных лавках по стенам, на разлапистой русской печи, на полатях над проходом, небрежно завешанных тряпьем, вповалку лежали и сидели люди. Посреди, под тускло светящей керосиновой лампой, в клубах махорочного дыма непритязательная компания в овчинных полушубках, смачно переругиваясь, тянула мутный самогон. Взлохмаченная женщина, на правах хозяйки, видно участвовала в попойке, ее тут же окликнули, но она, огрызаясь на нетерпение своих собутыльников, повела гостя за собой. Толкнув низенькую дверь, впустила Михаила в довольно приличную комнату, освещаемую мерцающим пламенем лампады у икон. Облов огляделся. У стены, завешанной в качестве ковра шелковым китайским покрывалом с драконами, примостилась казарменного типа кровать, заправленная стеганным одеялом, у темного оконца пузатый комод, у входа стоял видавший виды платяной шкаф, По центру, у овального стола, покрытого цветастой клеенкой, два венских стула, на столешнице миниатюрный медный самовар с чайным прибором.
- Здесь у меня «номер» для приличных людей, - напевно произнесла хозяйка. – Случалось, важные господа останавливались, один раз даже большой комиссар из самой Москвы заночевал, тогда всех постояльцев охрана на улицу выгнала. Иногда сдаю комнату на недельку другую, но только людям благородным, чистым и опрятным как вы. Так что не обессудьте? Располагайтесь, как будет удобней. Может, поесть хотите или чайку вскипятить?
Отказавшись от угощенья, Облов выпроводил хозяйку. Он понял, что женщина различила в нем птицу непростого полета, оттого такое радушие, оттого и такие апартаменты. Что же, придется отблагодарить за понятливость, сейчас это дорого ценится, а с другой стороны – хорошая западня, уже не уйти. Закрыв дверь на крючок, Михаил заклинил его дужку подвернувшейся под руку чайной ложкой, сняв пальто и стянув сапоги, не раздеваясь совсем, бросился на постель, усталая плоть радостно возликовала.
- Ну-с, утро вечера мудренее, - подумал Облов вслух и смежил веки.
Ночная духота стиснула легкие, в висках ломило, вся кожа взопрела и чесалась, грубый хитон резал под мышками - лежать было невмочь. Он с трудом оторвал тяжелое тело от лежанки, спустил ноющие ноги на прохладный глиняный пол, нащупал сандалии, машинально надвинул их. Огляделся округ. В блеклом мареве отсветов масляной плошки, люди, спавшие на лежанках и на полу, в проходах между ними, напоминали покойников, по странному обстоятельству собранных в одном тесном помещении. Перешагнув через распростертые на циновках тела, обойдя наваленные пирамидой тюфяки с пряно пахнущим восточным товаром, он вышел на свежий воздух. Одинокий серп месяца еле освещал приземистые глинобитные постройки, перемежаемые черными провалами тростниковых навесов, под которыми изредка всхрапывали мирно спящие арабские лошадки. Услышав протяжный, тяжкий животный вздох, обернувшись, он различил двух верблюдов, мирно жующих свою жвачку. Он прошелся по дворику караван-сарая, украдкой заглянул в пышущий жаром зев двери, еще с вечеру влекшей его внимание. Только бегло кинул взор, побоявшись подойти ближе. Слышался мерный храп здоровых мужчин, приглушенное клацанье соприкосновений металла (похоже на сквозняке колеблет боевое снаряжение). То были легионеры, вчера разместившиеся не постой. Мойше успокоено вздохнул. Хорошо, что пока солдаты прокуратора беззаботно посапывают, а он, еврей, уже на ногах. Теперь ему наверняка удастся пристроиться к колонне этих язычников. Под охраной их копий и коротких мечей, он безбоязненно преодолеет каменистые плоскогорья Самарии, избежит участи посланцев Синедриона, растерзанных кровожадными дикарями-разбойниками, ждущими неблагоразумных путников в горных ущельях или за песчаными барханами.
Мойше старался не думать о задании, вверенном ему в одной из тайных зал дворца первосвященника. Главное, что основой того поручения должна стать непримиримая беспощадность к инакомыслящим, к врагам Яхве. Именно жестокость, которую он так наглядно проявил в родном Тарсе и уже дальше по-побережью, выискивая и уничтожая врагов Израиля.
Наиболее строптивыми и непреклонными противниками канонического иудаизма, богохульниками, поднявшими руку на Шехину Творца, были последователи Иисуса, из Назарета. Они провозглашали непозволительно привлекательные для простонародья ценности, тем самым намериваясь поломать жизненные устои на обетованной земле, порушить веками сложившийся уклад, и не только в краю Моисея, но и по всей Великой Империи, по всей ойкумене, как говорят греки. Они исступленно фанатичны, они стойки и смелы, они полны духа решимости, они воспринимают мучение, не как кару, а как благое воздаяние. Нет, они не сумасшедшие, как считают некоторые недалекие начальники, они одухотворены и непреклонны, раз положив, всегда твердо стоят на своем. Вот с такими непокорными людьми - ему, Мойше, предназначено бороться, он востребован быть карающим мечом Яхве, как неумолимый рок исторгать врага из колен Израиля, призван нещадно губить их, испепеляя всякую память о них.
Однако семена скверны посеяны весьма щедрой рукой. Немало еретиков нашло последний приют в штольнях Антоньевой крепости, в затопляемых узилищах дворцов Хосмонеев и Ирода Великого. Другие навечно похоронены в зыбучих песках и бездонных глубинах Мертвого моря, а еще большее их число, просто побито каменьями. Но и живых прозелитов уже не перечесть, как шепчутся жрецы в притворах иерусалимского храма, они множатся с каждым днем.
Чем, каким таким обаянием, каким чарующим словом тщедушный пророк из Назарета обольстил сердца своих последователей?! А теперь его приверженцы расплодились не только по Иудее, Израилю и Самарии, но в Сирии, Месопотамии, они есть даже в Египте и далекой Ливии. Неужто только обещаниями благостной и просветленной жизни в загробном мире смог он привлечь сердца людей?! И еще призывом «любить ближнего своего, как самого себя», он умаслил людское тщеславие. Да и каком-таком праведном мире толковал он, зачем порицал в угоду черни жизнь достойных персон, возводя в пример поступки бескорыстных голодранцев?! Да, зерна раздора дали обильные всходы! Но рука Мойши не дрогнет, искореняя скверну, как и не дрогнула бы она, окажись перед ним тот – голубоглазый, скиталец из Назарета, жаль, что он уже мертв…
- И пусть, - злобно произнес Мойше вслух, - я еще раз казню его, безоглядно изничтожая последователей Лжемессии. Я изгоню всякую память о нем! Люди вовек забудут Иисуса из Назарета, я сотру сам факт его пребывания на Земле!
Тем временем постоялый двор просыпался, звуки человеческой речи наполнили стан, приводя все округ в неукротимое движенье. Засновали водоносы, едкий дымок из печей донес запах варева, погонщики, ездовые, и прочая многочисленная челядь приступила к выполнению своих неотложных обязанностей.
Но вот раздался тяжелый топот и легионеры, на ходу облачаясь в выцветшие кожаные доспехи с тусклыми бляхами, толпой вывалились из саманного закута.
Мойше наметанным глазом нашел старшего из них. С льстивой улыбкой приблизился он к мрачному ветерану. Встав несколько поодаль, остерегаясь наступить на длинную тень римлянина, он проговорил елейным голосом:
- Если господин разрешит, то я смиренный иудей буду следовать за его отрядом на расстоянии броска копья? Я знаю, господин милостив, он не позволит, чтобы разбойники зарезали мирного иудея по дороге в Дамаск?
Мойше достал из-за пазухи жирно блеснувшую монету и протянул ее легионеру.
Тот жадно схватил деньги и скорее сплюнул, чем произнес:
- Можешь идти за нами, пёс…
- Благодарю господин - покорно ответил Мойше, всем своим видом выражая почтение и полное повиновение римлянину. Но в то же время, оставаясь себе на уме, хитрый еврей подумал:
- Чего только не вынесешь ради благого дела. Поганый язычник не признает во мне человека, но я стерплю, я все снесу на своем пути воина Яхве.
Многие паломники и торговцы последовали примеру Мойше. Мошна центуриона скоро наполнилась тяжелыми монетами. Старый рубака был милостив. Пусть псы и шакалы тащатся позади, ведь это ничего не будет стоить солдатам прокуратора.
И вот тронулся странный караван… Впереди, растянувшись длинной цепочкой, по двое, по трое шагали легионеры, утреннее солнце блестело в их позеленевших нагрудниках и наплечниках. Солдаты тяжело ступали натруженными долгими переходами ногами, шли враскачку - им некуда спешить, дойдут когда-нибудь, весь мир и так принадлежал им. Чуть сзади двигалось несколько повозок с поклажей центурии. Мрачный командир возлежал на одной из них, его взор бесцельно устремлен в зенит, ничто не бередило его чувств, их у него попросту нет. Позади воинов, отстав на полстадии, кучно двигались люди, вьючные лошади, верблюды с огромными тюками. В той гомонящей, разноязыкой толпе шел и Мойше, ему нельзя выделяться, ему напрочь заказано привлекать к себе любопытных.
Посмотреть со стороны: бредет по песку и щебню ничем особо не примечательный моложавый иудей в грубом плаще, с высоким посохом в мускулистом руке. Он вежливо отвечает на вопросы соседей, изредка утирает со лба и щек обильный пот, да время от времени поправляет тесемки заплечного мешка, что так больно режет плечи и ключицы.
Продвигались они без остановок до полудня, отстать никому никак нельзя, больной или увечный - терпи. Наконец сделали привал у придорожного колодца. Легионеры, раздевшись догола, поливали друг друга водой, гомонили и безудержно брызгались. Паломники и караванщики безропотно ждали своей очереди, потом и они утолили свою жажду. Переждав полуденный зной, разномастная колонна опять тронулась в путь и шла уже до самого вечера, сделав остановку на ночлег в очередном придорожном караван-сарае.
Мойше, получив отведенное место, в отличие от прочих путников, не рухнул ничком на циновку. Съев сухую лепешку и запив ее прогорклой водой, он незаметно вышел за ворота постоялого двора и направился к давно примеченным кибиткам скотоводов- кочевников. По их характерным конусообразным очертаниям он распознал один из родов Исаакова племени, и вознамерился побеседовать с его старейшинами. Разузнать у них - проникло ли учение Христа в их шатры, незамутнено ли еще одно из колен Израилевых от плевел, разлетевшихся ураганом по всем весям? Или уже парша проказы проникла и сюда?!
Не едина заблудшая овца встретилась на его пути, не одну общину успел он заподозрить он в измене. Конечно, теперь так просто им с рук не сойдет, грядет неминуемая расплата и он, Мойше, ее провозвестник.
Малиновый шар солнца только что спрятался за коренастыми уступами горной гряды, полукольцом опоясавшей плато с запада. Едва последним луч светила ускользнул с горных вершин, как на землю разом слетела мягкая синева, окутав предгорья тишайшей негой и сказочной таинственностью.
Мойше заспешил к шатрам кочевников. Однако, остерегаясь быть обнаруженным заранее, он ловко выбирал складки местности. Казалось, что ему по-звериному удается приникать к земле, сливаться с ней, становясь оборотнем, а не человеком. Но лишь стоило иудею приблизиться к становищу, как шаг его сделался тверд, стан распрямился, на лице залучилась мина искреннего прямодушия.
У небольшого, еще слабо разгоревшегося костра, поджав ноги, сидело несколько бородатых мужчин в длинных, ниспадающих живописными складками хитонах. Они почтительно внимали словам высокого, иссушенного годами старца с окладистой, белой, как выпаренная соль, бородой. На впалой груди старца рельефно выделялся отлитый из серебра медальон, подтверждавший его сан. Голос вожака был чист и звонок. Мойше на мгновенье прислушался, старейшина говорил о каком-то сговоре братьев против младшего - единокровного им по отцу. Совсем нетрудно догадаться - речь шла об Иосифе Прекрасном. Видимо этой древней, ветхозаветной историей старик предварял обсуждение важного для сородичей вопроса. Но Мойше уже заметили, головы старшин повернулись к незнакомцу, тому пришлось с покорностью подойти к насельникам бескрайних пустынь.
- Мир Вам, добрые люди, позвольте бедному страннику погреться у вашего огня.
Мойше был тонким психологом, не раз ему доводилось, используя вкрадчивые манеры и смиренный тон, заслужить доверие адептов нового учения, усыпить их бдительность, стать их ближайшим другом и советчиком, иные из них называли его братом, - а он затем выдавал их. Вот и теперь ему удалось расположить ладей Исаака к себе. Он преломил хлеб их, он испил молоко от коз их. Они показали ему жен и чад, поведали о поголовье стад и тучности племенных пастбищ. И разделив их горести и нужду нелицемерным, как поверили люди, участием, он смог переступить грань отчуждения между недавно еще чужими людьми. Кочевники признали в нем своего и стали с ним откровенны и не таились его. А он ловко подвел беседу в нужное ему русло, словно невзначай они разговорились о пророке из Назарета, стали выказывать свое отношение к его жизни, а более, к жестокой казни, предпринятой по указке синедриона.
У исааковлян еще не сложилось осознанного отношения к новому учению. Однако им импонировали воззрения Христа на бедных и богатых, они с участием разделяли взгляды пророка на нравственное поведение и ответственность человека в этом мире. И уже открыто сомневались в том, что в делах веры всегда обязательно прав первосвященник и синклит иерусалимского храма. Но все это говорилось с чужих слов, передавалось, будто эстафета, оттуда-то издалека. Во многом суждения их были неточны, терялись существенные моменты учения. Пытаясь их отыскать самостоятельно, они привносили много лишнего и ненужного, но сердцевина, сущность убеждений Христа от того, в общем-то, не исказилась.
Мойше понимал, проходи Иисус Назарянин сей дорогой - более стойких последователей ему не найти. Выходило, что крамола проникла и сюда, семена опасной ереси дали обильные всходы, и пока не поздно, нужно вытоптать, взошедшие зелена. Вытоптать как можно скорей и тщательней, не дать им заколоситься и просыпаться обильным зерном.
Он постарался запомнить в лицо и по имени наиболее голосистых приверженцев «благой вести», он поднатужился заучить наизусть для будущего обвинительного приговора их прямые и искренние высказывания об обетованном спасении, о грядущем справедливом суде над живыми и мертвыми. Мойше был уверен – с его подачи, эти самонадеянные кочевники уже безоглядно обречены на муки. Вскорости воины первосвященника, а может и он сам, во главе отряда из сирийской диаспоры, явятся и вознесут карающую десницу над шатрами неверных исааковлян.
А Яхве, в лице первосвященника Иосифа Каифы отметит его преданное служение, отблагодарит достойным правоверного иудея образом. Впрочем, он сам не ищет почестей, наградой ему являлось само дело, которое он вершил со всей неистовостью, на которую только способен простой смертный.
Поздно вечером Мойше покинул гостеприимное кочевье, ушел, для виду облобызав взрослых мужчин становища, ушел, нареченный братом, ушел, унося с собой счастье и покой, неискушенных в лицемерной подлости, людей Исаакова племени.
С чувством добротно сделанной, нужной работы он вошел под кров караван-сарая. В душе его царило ликованье, но не с кем было поделиться чувствами, охватившими его, он лишь сладостно потирал свои узкие ладони.
- Ох, как успешно, ох, как ловко он выведал новых супротивников исконной веры! Это несомненная удача, - в инакомыслии замешан целый род?! Подумать только, если бы не он, то Храм лишился бы вскоре десятков, сотен душ своей паствы.
Сон еще долго не шел к нему. Он ворочался, поджимал и вытягивал ноги, искал место рукам, - в голову лезли выспренние мысли, он любовался самим собой, своим умом, смекалкой, удачливостью, наконец. Он чаял себя кем-то великим, он считал себя вершителем судеб…
Но спать необходимо… Завтра предстоит еще один тяжелый переход по безжизненной пустыне, еще один шаг к упрочению дела, которому он отдал себя, иудей по рождению, но римский гражданин по имени Михаил.
Сон окутал его своей пеленой, все исчезло…
Подсознательно, еще во сне он явственно ощутил, что кто-то стоит подле него. Он очнулся. Присутствие незнакомца явственно ожгло его сознание, но может быть, то просто сонное наваждение, он открыл глаза...
Перед ним, слегка склонив голову, стоял высокий сухощавый мужчина в темном хитоне. Мойше впервые видел этого человека, ему пристало, приподнялся на локтях, вглядеться в лицо незнакомца. Что-то узнаваемое, давно отпечатанное в памяти было в том лице, осененном ниспадающими на плечи волосами, сужающейся курчавой бородкой. В темноте ночи на иудея кротко смотрели небесно голубые, чистые, словно озерная синь, глаза незнакомца. Неподдельная участливая доброта светилась в них. И тут, пораженный Мойше, наконец, осознал - кто стоит перед ним?! Но странно, он не ошущал страха или тревоги, наоборот, необычайное просветление снизошло на него. Лишь почему-то обильно потекли слезы, не ослепляя глаз, но нежной влагою омывая, очищая самою душу. И услышал он тогда тихий, печальный голос, пронзивший все его существо:
- Михаил! Михаил! Зачем ты гонишь меня…?!
Мойше заколодило от этих слов, он простер к Христу руки…
Как вдруг, все пропало. Разномастные голоса в унисон кричали: «Пожар, пожар!» За стенкой начался невообразимый шум и топот. Михаил ошалело вскочил с постели, метнулся к закрытой двери, потом к окну, освещенному алым заревом. Приникнув к стеклу лбом, он, наконец, увидал как совсем рядом со зданием вокзала, полыхает длинный бревенчатый барак. Должно станционные склады, - подумал Михаил. Натянув сапоги, он спешно выбежал из спальни.
Главка 4.
Возбужденное состояние очевидца пожара охватило Облова. Мелко задрожали руки, внутри заскоблил безотчетный страх перед огненной стихией, знакомый, пожалуй, всем без исключения. И как хладнокровен ни будь, одной силой воли скверный этот трепет не одолеть, останься человек безучастные свидетелем все пожиравшей мощи пламени. Существует только один верный способ унять сумятицу в душе - самому взяться и помогать тушить огонь, гасить полымя вместе со всеми, всем миром.
Облов по недавно проторенной тропе поспешил к горящему пакгаузу. Его обгоняли молодые, да ретивые, но и он не отставал, совестно плестись на пожар позади всех. Народ торопился, желая, по русскому обычаю, не упустить волнительное зрелище. По дороге Михаилу удалось выяснить, что станционный склад почти до верху забит, свезенным по осени зерном из окрестных сел и деревень. Нелегко, да и неправедно дался заготовителям этот хлебушек, у иных крестьян прямо от сердца отрывали, не считались ни с оравой домочадцев, ни с малыми детьми. Шли по проторенному пути, как тогда было принято: не до сантиментов, а «вынь и положи»! Хлеб отправляли в промышленные губернии, нечем было кормить рабочий класс. Однако, донести до сознания хлебороба пусть и малоприятную правду, что его кровным житом станут кормить рабочих, что тогда не замрут заводы и фабрики, что, наконец, города не паразиты на теле земледельческой страны - мало кто умел. Да и хотели ли, научились только отбирать, под угрозой посадить или даже лишить жизни?
До Михаила долетали куцые обрывки чужих фраз, народ, конечно, понимал, что хлеб подожгли намеренно, сработала чья-то протестная, или просто ненавистническая натура - не себе, не людям... Поэтому зло костерили поджигателей: «Креста на них, иродах, нет - зерно палить?!», тут же попутно ругали незадачливых складских сторожей. За одно досталось и халатным властям, во время не обеспечивших вывоз зерна. Но встречались и такие, кто злорадно усмехался про себя, - мол, так вам, большевички, и надо, нашлись, понимаешь, хозяева?!
Полыхал дальний от вокзала угол. Жаркое жадное пламя, с тяжелым гудом ворочая рваными, желтыми языками, ненасытно отхватывало все новые и новые куски от крыши и стен. Сатанински неукротимое, оно порой подобно одуревшему обжоре, отрыгивало не успевшую перевариться пищу, и тогда выстреливали в небо густые клубы едкого дыма, и раздавался зловещий, неизвестно откуда берущийся шум, вовсе не вмещающий в себя лишь только грохот рухнувших балок и завалившихся срубов, звон стекла и дребезжанье железа. И следом раздавался возглас ужаса, отпрянувших людей, они разом отшатнулись, словно от взрыва, панически страшась оказаться погребенными под углями и пеплом. А безнаказанное пламя с новой, неуемной энергией набрасывалось на строение. Дело осложнялось шквальными порывами ветра со стороны железнодорожных путей. При таком раскладе - минут через двадцать-тридцать от зернохранилища останутся лишь одни дымящиеся огарки. Но только ли головешки от бревен? Зловеще пахло паленым зерном. Каково подумать - горит хлеб?!
Подойдя ближе, Облов приметил, как по гребню крыши перемещалось четверо пожарных, неловко оскальзываясь, припадая на руки. Каждый был вооружен увесистым топором, Михаил смекнул, - начнут разламывать кровлю, чтобы отрезать ход верховому огню.
По щебню вдоль насыпи станционные рабочие рывками волокли пожарную помпу, с безвольно мотающей из стороны в сторону длинной рукоятью, другие путейцы тянули пожарный рукав, он рассыпался из скатки, путался у них под ногами, мужики спотыкаются, орут друг на друга. У горящих стен уже образовалось несколько цепочек из окрестных жителей, передающих из рук в руки ведра с водой. Толку от их усердия практически не было, все равно, что тушить костер чайной ложкой.
Михаил понимал, что наиболее действенный способ тушения состоит в том, чтобы не дать огню распространиться на больший объем здания, по-военному выражаясь, необходимо всеми силами локализовать горение на одном участке, а затем, методически наступая на огонь, подмять его, подавить всеми имеющимися средствами... но это все слова...
Сейчас многое решится, как скоро те парни наверху освободят стропила от подрешетника, раскидают крышу, обрубят столбовую дорогу пламени. Задача же тех с насосом и шлангами - лить воду, лить и лить, охлаждая стены и потолок, отнять у огня его силу, надсадить его...
С минуту Михаил простоял в нерешительном оцепенении, завороженный крутым норовом прорвавшейся стихии. Но вот он очнулся от гипнотизма пламени, не разбирая дороги, он бросился к пожарным, устанавливающим водяную помпу. Они уже протянули брезентовые рукава к врытой в землю бадье с водой, теперь ладили их муфтами к насосу. Облов заледеневшими руками перехватил шланг, помогая подтянуть его через рельсы. Никто не обращал на чужака внимания, его помощь была сама собой разумеющейся. Да и самому Михаилу некогда было умиляться, он без остатка отдался мокрой, грязной, но такой нужной именно в данный момент работе. Подтаскивал пульсирующую и упруго изгибающуюся под напором воды пожарную кишку, так и норовящую отбросить человека в сторону, поддерживал рукав на изломе, взваливая его на плечи, потом долго и утомительно качал в переменку с другими пожарный насос, стараясь не уступить в усилии своему напарнику, голосистому парню, молодецкой наружности. Михаил так устал с непривычки, что прозевал момент, когда пожар пошатнулся и стал сдавать. Облова подменил кто-то из вновь подоспевших. В изнеможении Михаил отошел поодаль, сел на брошенный обрубок шпалы. Теперь, на время, можно отдаться созерцанию панорамы борьбы с огнем.
Хваткие ребята, их число уже возросло, разломав двускатную крышу, сбрасывали стропила и горбыли обрешетника. Самый высокий из них орудовал длинным шестом, норовя побольше разворошить в самом зеве бушующего пламени, ему удалось скинуть несколько пышущих жаром бревен наземь. Снизу же, с двух рукавов упорно поливали, начавший лихорадочно метаться, расползшийся костер, тот стрелял вверх искрами, нехотя изгибался, желая отыскать обходной путь. Казалось, вот-вот огонь опять выйдет на простор, но не так-то просто ему было перехитрить пожарных и их добровольных помощников. Толпа зевак бурно реагировала на каждый новый всполох и не успокаивались до тех пор, пока струя воды не сбивала его, оставляя после себя шипящие и попыхивающие белесым дымком огарки.
Воздух резанул нещадный локомотивный гудок, со стороны вокзала, по запасному пути подали ретиво сигналящий паровоз, с непомерно гигантской трубой. «Кукушка» своим задом почти вплотную подошла к пакгаузу. Машинисты недолго возились поверху тендера, вскоре на пожарище обрушилась тугая, все смывающая на своем пути струя воды. Густые клубящиеся столбы пара окутали крышу сарая тускло-багровым облаком. Огонь, огрызаясь, отступил, приник к обгорелым бревнам, распластался понизу, ослаб на глазах.
Внимание Облова, досель втиснутое в шоры, отделяющие прочий мир от огненной стихии, с завершением пожара, опять приобрело способность улавливать идущие токи окружающей жизни. Его поначалу заинтересовал, быстро сменяясь тревогой, шумливый гвалт голосов откуда-то с подветренной стороны. Прислушавшись, Михаил явственно различил грязную брань и угрозы, доносившиеся оттуда. Раздались уж вовсе необузданные призывы - громить, бить, крушить… Михаил встрепенулся, озадаченное любопытство взыграло в нем, он поднялся на крутую насыпь.
С другого конца пакгауза, в полутьме, рельефно пронизанной отсветами глохнущего пожара, он увидал нестройную толпу, втягивающую в себя, как водоворот, новое пополнение. Михаил рассмотрел также множество подвод, словно в ожидании стоящих в отдалении. Возбужденная гудящая масса пришельцев теснила робкую кучку людей в форменных шинелях, видимо призывающих к порядку. Но вот толпа подмяла их под себя, и уже обволакивая подступы к зернохранилищу, давясь, просачивалась в него. Облов все понял – чернь пришла грабить склады, растаскивать зерно.
Михаила бросило в холодный пот, сердце лихорадочно затрепетало… Сладкий тошнотворный спазм неминуемого столкновения, неизбежного кровопролития на мгновение парализовал Облова, но вот, преодолев неподатливую тяжесть ног, Михаил решительно зашагал в ту сторону.
И разом в голове его прокрутился давешний сон. Ошпарила мысль о пророческой сущности ночного наваждения. То, несомненно, предзнаменование, - подумал он, - неужто сам Христос, снизойдя до него грешного, указал нужный путь. Михаил полностью согласен - вся жизнь допрежь была притворством, одним сплошным лукавством. Он сумасбродно потакал ложным, отнюдь ему не симпатичным идеям, лозунгам, да и всему тому миропорядку, который, Михаил понимал, вовсе не совершенен, а если быть до конца честным, так полон гнусности и лжи. Зачем?! Проще сказать, совсем не думая, дать давно затверженный ответ, - шел по инерции, закованный в вериги родовой обреченности. А как же еще?! Ведь он дитя своего класса, своей социальной среды, их, её кровные интересы – это и его приверженность. Да нет…. Какие там особенные пристрастия? Неправда, нет того!
Возможно, тягостно-постоянная неудовлетворенность своей жизнью, своим местом в этом мире толкнула его в эту адскую круговерть? А что?! Будь он на своем месте, будь жизни хоть какая-то определенность, стал бы он скакать под пулями, недосыпать ночей, в холоде, голоде - воевать сам не зная за что? Дались ему отцовы жеребцы и мельницы?! Нет, ну нет у него склонности к предпринимательству, какой из него хозяин? Не вышел бы из него капиталист, а уж тем более - не получился бы промышленный воротила. А посконный удел обывателя или маразм рефлектирующего интеллигента - с детства противен ему.
Так чего он хотел в жизни, о чем мечтал, кем вожделел видеть себя?! Вот она отмычка к его судьбе!
Он всю жизнь грезил о славе, жаждал почестей, стремился, чтобы люди боготворили его. Выходит, это - стезя Наполеона не давала ему спокойно жить?! Да, да - он всегда считал себя необыкновенным, ожидал, что неминуемо настанет тот день и час, когда свершатся его амбиции. Вот и тянул постылую и закабалившую лямку, грезя радужным будущим, сочтя настоящее лишь временным недоразумением. И оно отомстило: запутав, сковав по рукам и ногам тысячами условностей, предрассудков, обетов, и вовсе поработило своей безвыходностью.
И вот, восславим Бога, пришло отрадное просветление!
Хватит цепляться за ненужный хлам. Коварное прошлое не способно ни согреть, ни утешить, одна лишь морока с ним. Все так, но это самое старье-былье не отскочит, подобно комкам грязи от штиблет, его не отщепить подобно репью от штанин, оно вросло в плоть и кровь - его надобно вырезать, выжечь каленым железом. Сдюжишь ли?! Вот оно - настоящее испытание?! С кем ты теперь Михаил и где…? Сработает ли подсознательное чувство Правды, а если нет, то тебе уже ни чем не помочь!
Сейчас, на твоих глазах, простой, темный, патриархальный люд громит станционный склад с зерном. Но истина явно не с ними, они заблудшее стадо или науськанные псы, и то, и те слепые в своем невежестве. По сути, они вершат черное дело, и когда-нибудь поймут, что жестоко заблуждались. Его, Михайлова, задача на сегодняшний день - наставить их на путь истинный, отрезвить их ум. Но одуревшую толпу в состоянии ажиотажа словами не пронять, не прошибить броню дремучего азарта и пещерной злобы разумной речью, да не к чему метать бисер перед очумевшими свиньями?! Значит, опять придется применить силу, опять кровь…? Оправдано ли будет такое вмешательство? Нужно ли оно вообще именно сейчас, в данный момент? Как сказать…? Но оно необходимо самому Михаилу. Нельзя стоять в стороне, выбор сделан!
И чувство окончательно принятого решения придало Облову силы. Он вздохнул полной грудью, почуял, как мышцы налились свинцом, как в душе укореняется твердость, ощутил напрочь исчезнувший страх перед бурлящей стихией толпы. Михаил явственно видел правоту выбранной позиции и впервые за много лет душа воспарилась, он возликовал, его жгло нетерпение, какое-то экстатическое неистовство вскипало в нем.
С ходу, дерзко врезался он в неуступчиво сбившиеся тела мужиков, сразу и не разобрать, кто здесь отъявленный злоумышленник, а кто безмозглый ротозей. Но в целом, они все заодно, безумие парализовало их неискушенные мозги, и уговорами тут не помочь. Грубо, тумаками расчищая себе дорогу, получая и сам здоровенные тычки в спину, он протиснулся в середину людского скопища. Продолжая настойчиво работать локтями, он, наконец, пробился к намеченной цели. Вот она - почти доверху нагруженная мешками подвода. Коренастый, по глаза заросший бородой матерый бугай-селянин, широко, по-хозяйски расставив толстые ноги в смазных сапогах, наставительно указывал двум парням, как лучше пристроить очередной чувал. И тут Облов услышал исполненную самоуверенности фразу:
- Ну и работнички, ядрена вошь, без хозяина ни шагу ступить, - и кулачина протянул раскоряченные пальцы к мешку...
Михаил, спешно подался вперед, решительно ухватил мужика за руку:
- А ну-ка постой дядя! Вели скидывать мешки! Кому говорят, скидай, сука!
Амбал незряче вылупился на Облова, и вдруг, захлебываясь от ненависти, гундося возопил:
- Ребята! Тута какой-то гад не велит мешки грузить! Он, что озверел падла?! Робя, уймите комиссара! Будя ему глотку драть! Не боимся теперича ихнего крику! Уймите его мужики по-хорошему. Не хочу сам руки марать о гниду голопузую! Чего ждете, … вашу мать?!
Длинный парень в чуйке было сунулся, но мигом получил короткий удар по кадыку, храбрец слепо схватился за горло и в корчах рухнул на землю. Облов отпрянул спиной к телеге, принял боксерскую стойку. Безликая, разъяренная свора мужичья, опьяненная своей безнаказанностью и круговой порукой, молча, медленно надвигалась на него. Облов выпрямился, заложил руку за борт пальто. Боковым взором усек, как гундосый битюг, выпростав из телеги увесистый шкворень, заносит его вверх.
- Стоять! Ни с места! - гаркнул Облов. – Стоять, кому сказал! - и выхватив револьвер из-за пояса, остервенело потряс им.
Толпа несколько смутилась, встала, выжидающе поглядывая то на Облова, то на дородного мужика с занесенной железякой. Тот, почуяв смятение корешей, визгливо закричал, срывая глотку:
- Ребята не бойся! Бей его мужики! Ишь гад пистолю достал, думает, нас на дурака взять?! Чего стоите мужики, чего засрали?!
Толпа опять набычилась. Отъявленный кулачина потрясал своим прутом. Михаил ощутил себя великаном. Ему уже было все равно. Он уже презирал сгрудившихся перед нам тупых мужиков, оставалось только поставить их на место. И потому, намеренно спокойно, даже не повернув в сторону оравшего кулака, слегка шевельнув кистью, выстрелил тому в отвисший живот. Шкворень выпал из рук громилы. Глаза его белесо округлились. Он тонко заскулил, схватился, словно беременная баба за пузо, обвел взором оторопевших мужиков и заключил плаксивым голосом:
- Робя, он меня убил! - свалился наземь, задергав ногами.
Толпа ошалело попятилась и вдруг, заголосив, суетливо толкая друг друга, бросилась в разные стороны. Однако, отбежав метров на десять, крестьяне опять вкопано встали. Нерешительно переступая ногами, урывками переговариваясь меж собой, они исподлобья, уставились на Облова, ожидая дальнейших его действий.
Михаил, не обращая внимания не упертых мужиков, вскочил на телегу, подхватил вожжи и направил воз к воротам пакгауза. Он намеренно устремил лошадь на стоявших у ворот пакгауза смутьянов, прикрикнул на них, велел расходиться.
Но люди стояли. По-видимому, еще не до всех дошло, что Облов призван осуществить здесь порядок. Михаил с руганью, подъехал к дверям, развернул телегу, перекрыв выход, сам же спрыгнул внутрь склада. Тьма резанула его глаза, он невольно попятился, но преодолев неловкое замешательство, прокричал в гулкое пространство:
- А ну, бросайте мешки, выходите вон отсюда! Скорей выходи, не то стрелять буду!
Внутри завозились, недовольно загалдели, но никто не вышел. Тогда Михаил произнес безапелляционным тонем:
- Если через минуту не уйдете, всех перестреляю к чертовой матери! – и два раза выстрелил в потолок сарая, потом быстро дозарядил барабан револьвера. Внутри пакгауза произошла небольшая возня и несколько голосов разом заверещало:
- Начальник, не стреляй, не стреляй Христа ради, сейчас, ужо идем…
Михаил чуть двинул телегу, освобождая узкий проход. Вогнув головы, покорные мужики покинули недра пакгауза, не оглядываясь на Облова, поспешили раствориться среди остальных погромщиков.
Михаил же, выйдя перед воротами, властно, по-командирски обратился к мужикам, приказывая им расходиться по домам, оставив все, как есть. Ибо знал по опыту, что потом найдутся, кто приведет все в порядок: снесут хлеб под крышу, уберут покойника...
И тут, будто плетью ожгла кожу, точно электрический разряд прошелся сквозь тело. Волчьим чутьем Михаил ощутил себя на мушке. Мигом, отпрянув в сторону, он лишь узрел короткую вспышку выстрела. Облов прекрасно понимал: теперь стоит лишь малость продешевить, озверелая толпа мигом разорвет его. И он, даже внутренне не успев пожелать себе «с Богом!», разъяренно бросился в сторону выстрела, подсознательно сделав телом ловкий финт. Облов увидал перед собой невысокого человечка в долгополой солдатской шинели, тот нервно дергал заевший затвор винтовки, безумно уставясь на Облова, выросшего перед ним. Михаил навел ствол револьвера. Низкорослый выронил винтовку, обнажив белые зубы, издал протяжное, погребальное – «А-а-а-а-а-а!!!». Толпа разом отшатнулась, оставив мужика одного. Пуля вошла прямо в середину лба. Народ заворожено ахнул, некоторые даже сняли шапки.
- Батюшки! - первозданно чисто раздался чей-то ликующий возглас, прорезав напряженную тишину, словно первый крик петуха поутру. - Братцы, да это сам Облов! - Голос залился соловьем. – Михаил Петрович, Ваше благородие…, - навстречу Михаилу вынырнул, обнажив плешивую голову, благопристойный старичок в крытой драпом шубе, чем-то походивший на попа-расстригу. Поравнявшись с Обловым, он по-птичьи захлопал руками по своим бокам, пытаясь унять охватившее его возбуждение и внезапно охватившую немоту. Но вот справившись с вздорным языком, дедок, обращаясь к заинтригованным крестьянам, прокричал словно молодой петушок:
- Чего встали болваны? Идите отсель! - И вознося кверху дрыгающий перст, срываясь на фальцет, заверещал. - Не видите что ли дурни? - Сам Облов! Сам господин Облов перед вами. Али забыли сукины дети, али не знаете его? - и уже с угрозой добавил. - Вам, что жизнь не мила?
С полупоклоном обратившись к Михаилу, радушно пролепетал, - Михаил Петрович, господин подполковник, какими судьбами в нашу-то глухомань? Михайла Петрович, сколько лет, сколько зим…?! - и оглянувшись на застывших мужиков, погрозил им маленьким кулачком.
В старичке Облов узнал одного из былых компаньонов своего отца Ярыгина Якова Васильевича. Они торговали с отцом хлеб в Ельце и Рязани. Потом сам Михаил не раз по делу посылал к Ярыгину своих ребят. Яков Васильевич, правда артачился, но просьбы исполнял, знал, что можно поживиться за счет Облова.
- А, дядя Яша - здорово! - Облов, переложив револьвер в левую руку, торопливо поздоровался со стариком. - Как жизнь, не болеешь, Яков Василич? - и еще что-то сказал, так, лишь бы не молчать.
Оторопевшие мужики окончательно поникли, нашлись даже такие, что не преминули подлизаться, послышались вполне благоразумные речи:
- Так бы и говорил, что Облов явился. Мы почем знали, кабы знать, не стали бы перечить?! – и разом покорно залепетали. - Да нешто можно связываться, себе дороже…. Да на кой хрен нам супротив Облова идтить-то? Облов-то, он, брат, как черный ворон - везде поспеет…. Один хер, мужики не видать нам этого зерна! Все равно отберут! Пошли ребята, пойдем от греха…, - и в завершении пропел уж вовсе молоденький голосок, - валяй христиане по домам, а то еще хату спалят?!
И мужичье сборище раздавлено обмякло, спало с силы, стало покорно разбредаться. Но вдруг люди тревожно встрепенулись, навострились, вытянули шеи.
И как шквал, разом со всех сторон, раздались панические возгласы: «Милиция, солдаты, чека! Тикай, братва, уходим!» Народ, припустился бежать, заржали испуганные лошади, пискляво заверещали неизвестно откуда взявшиеся бабы.
- Михаил Петрович, а Михаил Петрович, - Яков Ярыгин дернул застывшего Облова за рукав пальто, - мы-то как? Пойдем ли нет? Может, ты уж комиссаром каким заделался, бог тебя знает?! Тогда уж извини меня дурака, я ведь попросту, по-отечески, увидал тебя и подбежал…. Тогда я пойду? Ну, их к вихру, еще подгребут под горячую руку, потом доказывай, что не рыжий.
- Постой Яков Васильевич, я с тобой.
И они побежали во тьму. Вдогонку им несся дробный топот конских копыт, редкая пальба, да разухабистый мат конных чоновцев и милиционеров. Но лошади и их седоки должно боялись ночной мглы, углубляться в темень не стали. Топот и мат стали глохнуть и вскоре совсем растворились в ночи, лишь изредка, сломанной сухой веткой щелкал одиночный выстрел, но и он был уже сам по себе.