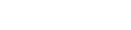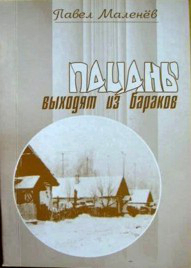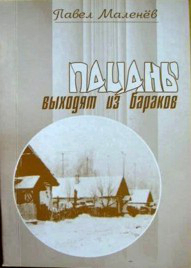 ПАЦАНЫ ВЫХОДЯТ ИЗ БАРАКОВ
ПАЦАНЫ ВЫХОДЯТ ИЗ БАРАКОВ Документальная повесть о детстве «детей войны»
(По благословению протоирея Вячеслава)
Название книги - «Пацаны выходят из бараков» - говорит само за себя: в ней послевоенная страна предстает сквозь призму восприятия 10-летнего мальчишки. Мальчишки, родители которого и его товарищей начинают в 1949 году строить первую послевоенную ГЭС - Горьковскую и возводить посёлок, который потом перерастет в город Заволжье (ныне Нижегородской области). Это «путешествие в детство» - уникальное историческое свидетельство. Быт строителей, послевоенное настроение народа, праздники на большой стройке, городские события - автор вспоминает о многом. (Издатель).
+++
Мы не были шпаной, не были хулиганами. Мы были обыкновенными послевоенными пацанами с присущими их характеру чертами.Но и не пасхальными мальчиками. Мы были дети рабочих, а жили в палатках, землянках и коммунальных бараках.(Автор)
+++
1.
Уходят из жизни ветераны Великой Отечественной войны, защитники Отчизны. Их осталась малая толика. Может быть, поэтому заговорили в последнее время о тех людях, которых тоже коснулось лихолетье 1941-1945 годов, - о «детях войны».
Кто же они - «дети войны»? Это те, которые в свои 8 лет работали наравне с бабами от зари до зари в колхозах, чтобы накормить хлебом фронт. Это те мальчишки и девчонки, которые в 12-15 лет на дневной пайке хлеба в 200 граммов пополам с торфом, засыпая от усталости, стояли у станков, вытачивая для фронта снаряды. Это и те, кто в эти годы младенцем вместо соски с молоком сосал странную соску-тряпицу с нажеванной матерью дурандой (жмыхом), а потом, после голодовок 1946-1948 годов, еще несколько лет продолжал недоедать вместе со всем простым народом и залечивать военные раны.
У них у всех тоже была своя война…
***
Я отношусь к последним, потому что родился за неделю до войны.
Себя я помню только с 5 лет. Тогда я жил в деревне Либежево Чкаловского района Горьковской области (ныне Нижегородской) у бабушки, матери отца. Запомнил я себя только с этого возраста потому, наверное, что именно тогда вернулась домой мама из поселка Правдинска, где она в последние годы войны охраняла на Балахнинском бумкомбинате военнопленных немцев. Мужики были на фронте, работающих на производстве немцев охраняли женщины с винтовками. «Такие, - рассказывала мама, - эти фашисты педанты: поднимут бревно, чтобы положить его на бревнотаску. Вдруг - гудок на обед. Они куда надо бревно уже не положат, а кладут его обратно на землю, потому что, видите ли, рабочее время закончилось…»
Мой папа - белобилетник, из-за плоскостопия непризывной был. Но его снял с парохода на Волге во время облавы уполномоченный военкомата и отправил на фронт, где папа как плотник служил сапером, наводил для армии мосты. «Бывало, мы не успевали навести мост. Тогда сами, как сваи, стояли по шею в воде, вплотную друг к другу, держа на плечах бревна, по которым проходили воинские части», - рассказывал отец.
Списали его из Советской Армии незадолго до конца войны, так как из-за плоскостопия он не мог угнаться за всеми на маршах. Вернулся он в военной форме, живой, хоть и с хроническим радикулитом. Потом военные чиновники ему заявили, что он «не является участником боевых действий». От обиды и гордости папа так ни разу и не сходил в военкомат за положенными медалями…
В то время, как вернулись отец и мать, даже в деревне люди голодали. Ели крапиву, лебеду, дуранду (черный жмых от льняного семени). Поздней осенью, когда поля утопали в ледяной дождевой воде, мы, пацаны, ходили босиком копать крахмал. После того, как колхоз убирал картошку, в старой лунке оставалась сгнившая черная осклизлая прошлогодняя картошина, которая была основой картофельного куста. Эту слизь мы собирали как драгоценность. Из нее родители пекли нам черные, и, казалось, очень вкусные лепешки, которыми мы и набивали пустые желудки. О том, какие были до войны конфеты, мы знали только по фантикам - конфетным оберткам, которые находили на чердаках и хранили как величайшую ценность.
Если везло, то на сжатом хлебном поле нам с мальчишками удавалось найти по нескольку колосков, которые я складывал в отцовскую пилотку. Зерна из колосков мы ели с ладони. Правда, собирать колоски разрешалось только пионерам. Их отряды были в соседней деревне, где был сельсовет. Они ходили по полю с холщевыми котомками и соревновались, кто больше соберет и сдаст колосков «в закрома Родины». Это были конкуренты деревенских мальчишек, к которым я тогда принадлежал. Издалека мы дразнили пионеров: «Пионеры из фанеры, а вожатый из доски, пионеры просят хлеба, а вожатый - колбасы!» В ответ на нашу дразнилку они показывали нам кулаки.
А вообще все, что тогда росло в поле, строго охранялось. Но как, например, фронтовик дядя Коля Чучин, пришедший с фронта на деревянной «ноге» и охранявший гороховое поле, мог достать нас? Сорвав 2-3 стручка на противоположной от дяди Коли стороне поля, мы пулей мчались долой. Правда, иногда нас догоняла крупная соль из его ружья!
В 6 лет я уже помогал отцу, умел пахать, только на углах поля мне было не под силу перебрасывать тяжелый плуг из борозды в борозду под прямым углом, и это делал папа. Мы с пацанами водили колхозных коней в ночное и лихо ездили рысью, стоя в полный рост на спине лошади как циркачи.
«То не Божий был знак - военный, от разрухи и голода крут, этот год с рахитичной рожей надевал на мальчишек хомут…»
Современному поколению трудно представить, что многие деревни и села, в том числе в Горьковской области, сидели тогда при керосиновых лампах, молотили хлеб вручную - цепами (к длинной палке ремнём приколачивалась короткая палка, это и был цеп), поскольку немецко-фашистское нападение в 1941 году остановило электрификацию страны.
Дальше начинались события, тоже типичные для моего поколения.
2.
Года через два после окончания Великой Отечественной войны в сотнях деревень Горьковской области близ Волги - в Чкаловске, Пурехе, Городце, Правдинске, Балахне - стали появляться уполномоченные. Тем, кто у них завербуется, они обещали на какой-то большой стройке хорошую работу, нормальную зарплату и профессию. А жильё - сразу для всей семьи.
Оседлых крестьян это манило и одновременно отпугивало. Как это так: сняться с места, бросить избу и куда-то ехать? Серп для жатвы - вот он, цеп для обмолота зерна тоже инструмент привычный. Да и куда деть козу и кур, если они у кого есть?
А с другой стороны - плюсы несомненные: во-первых, за людей, оголодавших в годы войны, голосовали желудки. Во-вторых, уполномоченные обещали, что можно уйти из колхоза, откуда никого не отпускали, просто не выдавая паспорт. А за трудодни, за «палочки» вместо денег все устали работать. И, самое главное, на стройке паспорт выдадут - полноценным гражданином можно стать!
Но в первую очередь вербовали так называемых «отходников»: тех, кто умел держать топор, кто знал кузнечное, шорное или иное какое дело, а уж, тем более, механиков или трактористов.
Так постепенно формировался кадровый состав строителей Горьковской гидроэлектростанции - первой огромной послевоенной стройки. Здесь, в 70 километрах от Горького, на ГорьковГЭСстрое, которому впоследствии предстояло стать городом Заволжьем, в 1949 году оказалась и наша семья.
3.
До ГорьковГЭСстроя я видел кино только один раз - в селе Губцево Климотинского сельсовета под Чкаловском. Самой большой цивилизацией в нашем Либежеве были черная тарелка радиорепродуктора и керосиновая лампа. И вдоволь я с пацанами смотрел кино на Десятом поселке, входящем в черту ГорьковГЭСстроя. Это была 16-миллиметровая пленка, ее часто заедало в аппарате. На ней скакал и стрелял сам Чапаев! «Ура!», «Ура-а!» - кричали и свистели мы, когда киномеханик, приехавший откуда-то на телеге, перематывал пленку и вставлял в свой аппарат очередную часть с Петькой и Анкой, завораживая нас своим колдовством.
Когда наша семья осенью 1949 года приехала на ГорьковГЭСстрой, мне было 8 лет, и я пошел во второй класс. Мы были в числе первых, кто приехал на стройку. На лесной поляне, частью вырубленной искусственно, было расставлено около десятка больших, армейского типа палаток. Посреди каждой палатки стояла печка-буржуйка. А вокруг нее по периметру простыми занавесками были отмерены для каждой семьи «секции». Днем мы подтаскивали сухие чурки и сучья, а женщины на кострах готовили пищу для своих семей.
Ночевали за занавесками в своих «секциях». Уже стукали ночные заморозки. Нас, детей, клали поближе к «буржуйке». Но всё равно утром встанешь - не можешь одеяло от полога палатки отодрать: примерзало!
Но рядом уже просеку прорубили и назвали: «Улица Полевая». Мой папа в своей бригаде плотников строил здесь первый барак.
Больше повезло тем, кто имел практику жизни близ Волги. Они выкапывали в крутом берегу реки землянки и, казалось, им всякая непогода нипочём.
- Ничего, - успокаивала меня и сестру мама, - первый барак папа уже заканчивает. Скоро из палаток туда переберемся!
А пока что счетовод Борис Иоффодович привез откуда-то тахту и поместил её в нашей палатке, заняв тахтой часть соседних занавесочных «секций». Из-за этого в палатке постоянно вспыхивали ссоры, которые заводила его жена, если кто-нибудь задевал их тахту грязными сапогами.
Борис Иффодович день проводил на работе, а его жена находилась всё время «дома», и я её хорошо запомнил. Она была жирная, как осенняя утка на карьерах. И потом, переехав в индивидуальный финский домик, даже в самые сильные морозы ходила без перчаток. При этом её могучие лёгкие испускали на морозе такие клубы пара, а её испорченные зубы - такой запах, что казалось: это в густой пыли на сельской дороге катит ассенизаторская бочка в конной упряжи.
Но вот на улице Полевой было построено несколько бараков с общей кухней, где у каждой хозяйки на дровяной плите была своя конфорка, своя бельевая веревка. А дальше - как сказал Владимир Высоцкий:
«Все жили вровень, скромно так, -
Система коридорная,
На тридцать восемь комнаток -
Всего одна уборная.
Здесь на зуб зуб не попадал,
Не грела телогреечка,
Здесь я доподлинно узнал,
Почём она - копеечка».
В бараке часто вспыхивали ссоры: из-за того, что тесно, и из-за того, что холодно, из-за того, что всегда хотелось есть, и из-за того, что кто-нибудь занимал чужую конфорку на кухне или бельевую верёвку.
Но всё равно для нашей семьи радостью стал и барак: до зимы мы всё-таки успели перебраться в более-менее сносное жильё.
Барак представлял собой длинное дощатое сооружение с коридором, выходящим на оба торца барака. Стенки были двойные, между которыми для утепления насыпались древесные опилки. Там всегда кишели клопы, и спать на кровати можно было только после того, как постель посыплешь свежим дустом. На наружную стену крест-накрест прибивалась дранка (рейки) и наносилась штукатурка. В каждой комнате была печка-«буржуйка». Вот и всё.
Извините, если утомил техническими подробностями. Но это я для тех, кто сейчас на свои кровно заработанные ставит трёх- четырехэтажные дворцы, например, в Ялте, Евпатории прямо над водой и на пляжном песке. А также хотел показать, как жили мы, дети войны, и наши отцы и матери, прошедшие войну, когда и такая жизнь считалась счастьем.
Конечно, и тогда семьи начальствующего и технического состава жили не в бараках. Для них строили из сборных деревянных щитов так называемые «финские» домики.
А пока строился в посёлке клуб, мы бегали из палаток по торфяным гарям, где в первые годы советской власти добывали торф, в кино на Десятый посёлок. Там изредка крутили привозные кинофильмы: «Чапаев», «Свинарка и пастух», «Его зовут Сухэ Батор» и другие. Ушёл 1949-й год…
4.
Моих ровесников на «ГорьковГЭСстрое» оказалось много. Девочек сейчас почти не помню, а вот друзей, мальчишек, вспоминаю до сих пор.
По именам мы друг друга не звали. Побегали к окну и кричали:
- Белка, выходи гулять!
Белкой был Юрка.
- Сейчас доделаю уроки и выйду! Зови пока Мартышку!
Мартышкой мы звали Шурку. Шурка тоже кричал в ответ:
- Сейчас, Щурёнок, выйду.
Щурёнок - это значит я.
Помню и фамилии, но называть не буду, поскольку когда один из троих, спустя много лет, стал небольшим начальником в цехе Заволжского Моторного завода, где я работал наладчиком агрегатных станков, то он меня «не узнавал».
У Мартышки среди барачных жильцов были самые "богатые» родители. У них всегда был хлеб и сахар. Когда мы звали его гулять, он выходил на улицу, нарочно медленно дожёвывая настоящее по тем временам лакомство: кусок чёрного хлеба, чуть присыпанного сахарным песком и политого водой, чтобы песок не ссыпался. Мартышка выходил из барака и тут же кричал:
- Сорок один - ем один!
Тот, кто раньше произносил тогда это популярное среди моих сверстников заклинание, имел право не делиться едой с товарищами. Но нас не проведёшь: мы с Белкой спрятались за дверью, и, едва нос Мартышки показался из-за двери, мы дуэтом произнесли раньше, чем он открыл рот:
- Сорок восемь - половину просим!
Мартышка без жадности отломил нам половину оставшегося у него куска - такое было у нас железное правило.
5.
И вот в поселке Заволжье появился киноклуб. Его строили в основном по вечерам женские комсомольские бригады после того, как они до потери сил нарабатывались на валке леса - прорубались всё новые и новые просеки. И когда клуб построили - это был настоящий праздник для всего «ГорьковГЭСстроя». Особенно для пацанов. А среди наших любимых фильмов вдруг стали появляться заграничные: «Индийская гробница», «Кето и Коте».
Но нас, мальчишек, больше всего поразил американский «Тарзан», снятый в павильонах-«джунглях» Голливуда, во время демонстрации которого появлялись титры о том, что «этот фильм взят в качестве трофейного после разгрома фашистской Германии». После «Тарзана» меня и всех пацанов поразила такая «болезнь»: мы приставляли ладони рупором ко рту и как этот киношный герой издавали гортанный крик «иа-а-а», похожий на ослиный, только намного протяжнее. У нас не было пальм как у Тарзана - нам хватало в лесу деревьев. Мы залезали на одну ёлку и, раскачавшись на ветке, прыгали на другое дерево, пытаясь догнать друг друга. А ещё громко декламировали неизвестно кем сочинённые строки о героях этой первой ленты о Тарзане: «Тарзан - партизан, Чита - патриотка, Мальчик - тоже партизан, а Джен - идиотка!»
Потом мы усовершенствовали эти тарзаньи забавы: брали длинные шесты и, разбежавшись, как прыгун в высоту, запрыгивали на лапы елей.
Еще среди наших забав были лапта и «в попа-гонялу», когда водящего загоняли километра на три по старой Чкаловской дороге, чуть ли не до Урковской горы, а потом мчались обратно, чтобы успеть занять свои лунки раньше водящего.
Потом до ночи нас нельзя было оторвать от игр «в ножички на круге», "ножички в зубарики" или от «чижа».
Хотя выражение «играть в чижа» бытовало только в интеллигентных семьях, а мы, дети рабочих из бараков, говорили: «играть в кулики». Потому что когда для кого-нибудь после проигрыша наступали «маялки», он, маясь, бежал за далеко отбитым из круга чижом и приносил обратно, набрав в лёгкие побольше воздуха, и кричал, растягивая слова и не прерывая дыхания: «Бабы веники вязали, и кричали кулики-и-и...» Если не вытягивал и прерывался - его маяли повторно.
А также среди наших игр было ещё, например, хождение на высоких ходулях, когда мы свободно садились с ходулей на крыши сараев.
Но мы были бы, наверное, не пацаны, а ангелы, если бы не играли на деньги - по всякому: «в орла и решку», «в чику», «в стенку». Правда, это были всего лишь копейки.
6.
Но и эти копейки стоили многого. Периодически, чаще это было весной, мой папа брал листок бумаги и химический карандаш, с которым он плотничал в котловане, и садился к тарелке радиорепродуктора. Это значит, что по указанию И.Сталина было очередное снижение цен на продовольствие и промтовары. Как писал В.Высоцкий, «было дело - и цены снижали».
Знаменитый Левитан читал всё, вплоть до мелочей: «Цена на штапель снижена на 23 процента, на габардин - на 17 процентов, на кастрюли алюминиевые - на 12 процентов, на икру паюсную - на 15 процентов...» Да, на фоне аскетической жизни в магазинах и сельских лавках стояли большие деревянные бочки с красной рыбой и икрой. Стояли и тухли, потому что не было спроса, потому что икра рабочему классу ГорьковГЭСстроя была не только не по карману, но и не по вкусу. А, главное, потому что нам не хватало и хлеба...
На Финском посёлке, рядом с площадью, был синий хлебный ларёк на шаткой основе.
Очередь за хлебом часто занимали с вечера, писали номера на ладонях и периодически уходили домой. Если это было летом, то чаще всего взрослые посылали следить за очередью нас, детей. Порядок в очереди наблюдался только до прихода либо фуры-автомашины с хлебом, либо конной фуры (на какой стал работать мой папа, так как плотничать дальше ему не давали плоскостопие и полученный на фронте радикулит). Но как только подъезжала машина, стоящие сзади люди начинали давить на передних, чтобы кто-нибудь не «пролез без очереди». Ларёк от такого напора начинал шевелиться и сдвигаться с бетонной подушки. При таком напоре самые слабые буквально выдавливались из очереди как мячи. А в это время машина «пятилась», чтобы разгрузиться. И вот однажды, когда женщина, далеко выставив под углом ноги, пыталась «вдавиться» обратно на своё место, заднее колесо машины наехало на её ноги - раздался хруст и крик...
От ларька до барака мы бережно несли не только буханку, но и все маленькие довесочки. В то время хлеб резали и взвешивали с точностью до грамма на весах с гирями так, что иногда получалось по два-три крохотных хлебных довеска. И стоило большого терпения, чтобы донести их до дома и не съесть по дороге.
7.
Наши отцы, уцелевшие на войне, и матери, выкладываясь на работе, тоже питались кое-как. Одевались в валенки да фуфайки (телогрейки). Единственное крепдешиновое платье, ещё довоенное, моя мама надевала только по праздникам, например, на массовое гуляние в парке за школой в честь Дня выборов («День» писали с большой буквы) «за кандидатов Сталинского блока коммунистов и беспартийных». А я носил в школу пиджачок, который мама сшила на руках из своей старой сатиновой юбки.
Иногда после получки наши матери шли на базар, чтобы купить немножко куриных потрошков для «барского» супа (картошку и капусту большинство наших соседей возило из своих окрестных деревень, а также выращивали на грядках возле бараков). Когда на базар шла моя мама, я всегда просился идти с ней. И я запомнил: «Полуголодный рынок месит грязь. Холодный ветер умывает снегом. Иду, за руку мамину держась, и всё смотрю туда, где пахнет снедью. Круги дуранды, спички, самогон, замки, часы, иконы, коромысла. Кто ворожит, кто тычет сапогом... Вот инвалид поёт, но я не смыслю...»
Вообще тема инвалидов войны тоже шла параллельно нашему барачному детству. Они встречались везде: на стройке, в поезде, который таскал из нашего Заволжья в Сормово по проложенной ветке паровоз, на Сталинском вокзале в Горьком. После войны многие калеки - без рук или без ног - зарабатывали «жалостливыми» песнями. Женщины слушали, вздыхали, утирали влажные глаза и кидали им в кружку копейки. Были и смешные наивные песни. Одна из них, которую я услышал на Сталинском вокзале в Горьком, врезалась в мою мальчишескую память. Пишу с сохранением всех стилистических особенностей:
«Я познакомился с семьёй -
Вместе с мужем и женой.
Говорит, что «мужа нет,
Приходи ко мне, мой свет!»
Вот я к дому подхожу,
Во все стороны гляжу.
Мы сидели, пили чай -
Муж вернулся невзначай.
И с испугу, так сказать,
Я пустился под кровать.
Под кроватью было пыльно,
Мне чихать хотелось сильно.
Муж свою жену шугнул, -
Я испугался да чихнул!
Муж тогда ко мне пошёл,
Меня, бедного, нашёл.
Поволок меня «мой милый друг»
То на север, то на юг,
То на запад, на восток,
То об печку, об шесток!
Переломал он мои кости,
Перестал ходить я в гости.
Вот советую и вам
Не любить красивых дам!»
Там, на Сталинском вокзале, когда мама возила меня в Горький крестить в церкви, я заработал денег на полную копилку-свинку следующим способом. Я был юркий мальчишка, и какой-нибудь денежный уркаган из вокзальной толпы клал на цементный пол бумажный рубль. Я, лёжа на спине и делая очень крутой мостик, наподобие цирковых гимнастов, должен был дотянуться до рубля через голову, поддеть его языком и удержать губами. Если это удавалось - все аплодировали, а рубль оставляли мне. Если не доставал - получал «щелбан» по голове.
Та вокзальная толпа тогда просто кишела уголовными элементами. В Сормове на вокзале я видел следующую сцену. Двое поссорились возле буфета. Один выхватил финку, другой - пистолет (толпа завизжала и отхлынула прочь!). Но до крови дело не дошло: первый закатал рукав и показал второму какую-то наколку, после чего оба разошлись. Можно было догадаться, что первый оказался «паханом», авторитетом.
8.
Нам, растущим пацанам, всё время хотелось есть. Как могли, мы питались на стороне - у матушки-природы. Даже родителей подкармливали.
Вот, например, начиналась весна. Пацаны - в лес, чтобы «сочить». Сочить - это значит вот что: ножом удаляешь на стволе сосны продолговатый участок коры. Весной на стволе под корой появляется тонкая нежная белая плёнка. Острым ножом снимаешь этот нежный слой сверху вниз тонкими длинными лентами. Эти ленты вкусны и сочны (их мы и называли соком). Потом известным способом заготавливали берёзовый сок. Мама его выпаривала, и получалось очень вкусное лакомство к хлебу (если он был). Потом под разлапистыми елями появлялась кислица - нежные растения, по вкусу напоминающие щавель. Потом поспевали ягоды черёмухи. А дальше - как и сейчас: разные ягоды и грибы.
Но это ещё не всё. Там, где сейчас находится чаша Горьковского водохранилища, может быть, в полукилометре от ныне существующей дамбы, протекала река Воложка, длинный рукав Волги, отгороженный от основного русла островом. А рядом была пойма, в которой неисчислимо росли кусты лесного ореха, и протекала речка Юг. Мы наедались этих орехов досыта и полные пазухи приносили домой. А в речке Юг «щупали» раков - их было много в речных норах среди коряг. Я отваривал их и относил на работу папе, когда он ещё плотничал в котловане ГЭС.
9.
Ласточки-береговушки вили свои гнёзда в обрывистом берегу Волги - там, где сейчас находится известный Заволжский моторный завод, и ниже по течению. Потом их покой нарушили приехавшие на «ГорьковГЭСстрой» практичные люди. Пока мы жили в палатках и бараках, они по примеру рыбаков выкопали в обрывистом берегу множество землянок по образцу военных блиндажей, выложили их изнутри и с крыши брёвнами, какие плыли по Волге в неисчислимых количествах, потерянные во время сплава на лесозавод. Покрыли их толем. Получалось хоть и дымное, но тёплое жильё, где они и жили семьями по нескольку лет, ожидая очереди на квартиру. А в свободное время немеряно ловили осетров, жерехов, язей, сомов и налимов, которых много было в волжской воде.
Огромные, километровой длины, сплавлялись вверх по течению, на стройку, на лесозавод для разделки, связки плотов строевого леса. Возле лесозавода эти плоты стояли, уходя от берега до середины Волги. Мы летом с пацанами ночью жгли на них костры и ловили на подпуск (снасть со множеством крючков) жирных лещей - до 5-8 килограммов за ночь.
Было в те времена на Волге только одно неудобство: день и ночь грохотали земснаряды и землечерпалки. Поселок строился в торфяных местах, и нужно было намыть твёрдую песчаную подушку на огромных площадях.
10.
К названию «Заволжье» люди привыкали очень долго, постепенно. Первые годы и строительство ГЭС, и жилой посёлок обозначали одним словом: «ГорьковГЭСстрой».
«Дружно работает на «ГорьковГЭСстрое бригада Каёлы», - сказал однажды репродуктор голосом Юрия Левитана в новостях из Москвы.
- Тихо, тихо! - зацыкала на меня в это время сестра, и вся наша семья стала слушать, как работает комсомольско-молодёжная бригада.
Да, имя водолаза Каёлы было известно на строительстве всем. Да разве только его?
Таких знаменитых людей здесь были даже не десятки - сотни. Если начальника «ГорьковГЭСстроя» Дмитрия Юринова, главного инженера Константина Севенарда и парторга ЦК на стройке Калянова (он обеспечивал партийную идеологию) знали из семейных разговоров просто как руководителей даже мы, мальчишки, то других людей называли «героями дня», «героями стройки», «победителями соцсоревнования», «ударниками труда» только за какое-нибудь неожиданное трудовое достижение.
Когда наша семья в 1949 году приехала на «ГорьковГЭСстрой», то здесь уже прославились, например, две бригады, одна из которых строила высоковольтную электролинию «Пестово-Балахна», а другая прокладывала просеку для железнодорожной линии от деревни Палкино (нынешняя Товарная станция) до Правдинска. А Грунин и Орехов прославились тем, что во время беды спасали других, а сами погибли. Потому им и честь, потому им и память в названиях заволжских улиц.
Я помню, как в первый год строительства во время рабочего дня кишел котлован людьми.
Это только позднее появились краны, скреперы, бульдозеры, экскаваторы, "МАЗы" и другая техника. А поначалу… Если вы видели по телевидению хронику строительства «Беломорканала» заключёнными, то картина ничем не отличалась в первый год и на Горьковской ГЭС. (Кстати, от крайностей нам не суждено, видимо, избавиться. Почему-то Горьковскую ГЭС переименовали в Нижегородскую. Видимо, по примеру украинских властей, которые пыжась от своей «нэзалэжности», в документах у людей переименовали все старые названия. Мне, например, тоже в паспорте напачкали, что я не Павел, а Павло, и что родился я в Нижегородской области. Прекрасное название, да ведь я родился в Горьковской, а Нижегородской тогда не существовало вообще!)
Но вернусь к повествованию. Когда я первый раз посмотрел сверху вниз в котлован, то он напоминал муравейник: тысячи людей с тачками, ломами, лопатами, пилами, кирками и топорами. «Лишь тачки у почина, уж после - ЗИС и МАЗ, но строилась плотина, и рос рабочий класс…»
Это была первая послевоенная ГЭС. Обнищавшая за годы войны страна… Обнищавшие и полуголодные, но сильные духом, если хотите, - сильные своей соборностью люди всё восстанавливали из руин и строили новое. А электроэнергия была нужна так же, как воздух, как хлеб. И мы, дети войны, были всему свидетелями.
11.
Тогда никто себя не щадил. Людям достаточно было сказать: «Надо!», чтобы они выполняли по полторы-две нормы. Пусть даже так, идеологически: «Идя навстречу очередному съезду КПСС…», но выполняли. Коллективизация труда тогда звучала как поэзия. Разнорабочих обучали, и они получали профессии.
Я иногда носил папе в котлован «тормозок» с едой - ну, там ломтик хлеба, огурец, луковица, иногда - суп. Папа и его товарищи по работе часто работали как водолазы: стоя почти по пояс в холодной воде (так же он наводил переправы во время войны в саперной роте). Кроме резиновых штанов им ничего из спецодежды не выдавали, но они работали, не жалуясь. Так отец, которого в конце концов доконал неизлечимый радикулит, был вынужден уйти работать коневозчиком в конный парк, располагавшийся рядом с лесозаводом.
На «ГорьковГЭСстрое» время уплотняли, как говорил советский публицист Борис Горбатов, до состояния сжатого воздуха. Многое делали девушки, в числе которых была и моя старшая сестра Рита.
Даже свадьбы играли, выкраивая время у работы. Почти не было тогда никаких выходных.
У всех обязательно что-нибудь случалось. «Плывун» пошёл в котловане (плывучий грунт) - объявляют аврал: вызывают экскаваторщиков, плотников, сварщиков, арматурщиков (и всегда, конечно, чернорабочих!). Баржа с грузом по Волге подошла - девушек на разгрузку! Цемент появился - бетонщиков давай!
12.
Девушки, надо сказать, все были переростки - под 30 лет, а многие и старше.
Большинство - незамужние, потому что миллионы мужчин погибли на войне. Много было вдов того же возраста, с опавшим взглядом, чьи мужья тоже остались лежать на полях боёв. «Свою нужду и тягостные мысли работой гнали изо всех углов. И превращались спины в коромысла у этих гордых и красивых вдов!» Каждая считала счастьем, если ей находилась хоть какая-то пара! Вот, например, как на этой свадьбе: «Русская!», «Русская!» слышна из подворотни. «Русская», «Русская» - в послевоенный год. Пляшет вся улица. Жених у Кати - ротный. «Русская!», «Русская!». А кто там слёзы льёт? Жарит заливисто гармонь в руках у Кати. Дождичек серенький пылит под фонарём. «Катька счастливая, всем женихов не хватит!» «Русская», «Русская!». «Мы живы, не помрём!» Ватники, туфельки… Смешные завитушки. Сколота «Русскою» с души усталой боль. Только недвижимо сидит жених у кружки. «Русская», «Русская» - каблучною пальбой! …А в горнице хлопоты спугнули долю вдовью: в горницу бережно безногого несут. К койке привязана полынь у изголовья… «Русская», «Русская»… Что - человечий суд?!
13.
Выходной день на строительстве выпадал в какой-нибудь день выборов. Тогда объявляли массовое гуляние в парке. Парком была окультуренная часть леса. Вековые сосны и ели были прорежены. Между ними построили сцену, сделали из досок и врыли в землю скамейки. По случаю массового гуляния здесь и буфеты работали. Кому дома не хватило самогонки, могли добавить здесь, в буфете.
Был я в августе 2005 года на празднике 55-летия Заволжья. Хороший праздник! Но я невольно сравнил его с «теми» праздниками, на «ГЭСстрое». Есть разница! Сейчас люди избалованы, пресыщены событиями. Ходят степенно, почти без эмоций, если не считать те эмоции, которые возникают в палатке после рюмки водки. Кажется, что людей уже ничто не вдохновляет, кроме воздушных шаров с портретом Президента В.Путина. А в те годы не праздновали - гуляли!
Гуляли как и работали: от души! Обязательно с гармонью, с песнями, с частушками, не стесняясь петь и веселиться (тоже соборность?) «Эх, раз, ещё раз! Варёные раки. Приходите в гости к нам - мы живём в бараке». Одна проходящая песенная компания заглушала при встрече другую: «Страна моя, Москва моя, ты самая любимая…», «Нам песня строить и жить помогает, она как друг и зовёт и ведёт…», «Вьётся, вьётся чубчик кучерявый, так и вьётся чубчик на ветру…», «На скамеечке влюблённые сидят и вдыхают там весенний аромат…»
14.
Пели ещё и такое: «А мне милый изменил - я где надо стукнула! За решётку угодил - я ему аукнула!» Здесь душевную простоту прощали даже специальные органы! Тем не менее, некоторых людей изредка куда-то с «ГорьковГЭСстроя» увозили. Не рабочих, конечно.
«Где ты, Сеня-Сенечка? Мать письмишка ждёт. Не осталось семечка тебе на развод! Помнишь, Сень, в избе-то лекцию? В люди вышли, кто донёс. Тут идейная инфекция всех изводит как понос!» Таким Сенечкой на «ГЭСстрое» оказался, например, архитектор Станкевич, по проекту которого построены самые примечательные здания нынешнего города Заволжья. С уха на ухо, закрыв поплотнее дверь, рассказывали, что Станкевич - шпион, враг народа, потому что слушал по ночам заграничное радио.
У нас, да и у всех в бараках, были только «тарелки» проводных радиорепродукторов, и нам, пацанам, было непонятно, как можно было слушать Англию или Америку! «Два кнута свились: кривда с правдою, тройка русская вязла в пыли!»
15.
А в парк на праздники приезжали знаменитые на всю страну люди. Помню лётчика Водопьянова (мы, мальчишки, обязательно пробивались в первый ряд, перед скамейками, и сидели на траве). Приезжал друг Сергея Есенина, уже пожилой человек. Здесь же, на эстраде с ажурными деревянными стойками, похожими на книжные этажерки, мы слушали, затаив дыхание, летчиц Раскову и Гризодубову, прославленную снайпершу Великой Отечественной войны Павлюченко и многих других, знаменитых в Советском Союзе героев.
В парке мы пробовали курить. В праздники на земле валялось много окурков - мы их называли «бычками». Все мы бегали летом босиком, так как обувь берегли для школы. И вот, чтобы не заметили взрослые, мы прикрывали «бычок» ступнёй, затем ловко хватали его пальцами той же ноги и, согнув ногу в колене назад, так же ловко переправляли окурок в ладонь. Набрав пригоршню «Норда», «Звёздочки», а, если везло, то и «Казбека», «Герцеговины Флор», мы убегали курить - поглубже в лес или на чердак барака, или в чью-нибудь баню в деревне Пестово.
Если забежать вперед, то другим, повальным видом отдыха у заволжан станет после постройки в 1952-м году стадиона катание на коньках. По вечерам вся рабочая молодёжь была здесь. И мы, мальчишки, конечно, - тоже! Хотя мы больше предпочитали катание на замёрзших торфяных карьерах. По гудящему льду можно было доехать до Десятого посёлка!
И лёд был такой прозрачный, что сквозь него мы наблюдали за плавающими подо льдом тритонами и лягушками. А ещё там, где скапливалась большая масса белого болотного газа, можно было проткнуть дырку и бросить спичку - раздавался замечательный взрыв!
16.
И всё же я бы сказал, что кадровых рабочих на «ГорьковГЭСстрое» всё-таки оберегали как могли. Например, в особенно опасных и глубоких оползнях, иногда увлекающих за собой людей, на самых тяжёлых «дубинушках» работали «зеки» - заключённые, не политические, сплошь уголовники. Их пригоняли сюда из «зоны», где они тоже жили в бараках, примерно там, где в настоящее время находятся магазины на проспекте Дзержинского (поэтому старожилы до сих пор и называют по привычке этот район «зоной»).
У «зеков» была своя рабочая «поэзия». Когда они тянули, например, верёвками бетонную трубу диаметром метра в два-три, то делали это под нецензурную, длящуюся часами и неповторяющуюся «дубинушку»-прибаутку. Вот, запомнил самую мягкую: «Раз-два, взяли! Ещё взяли! Ещё на ход! Курва-пароход! Раз-два, с маху! Любим сваху!» Ну, и в таких случаях добавляют: «и т.д. и т.п.»
Кстати сказать, тогда процветала уголовная романтика. Отчасти потому, что отбывшие свои сроки «зеки» оставались на стройке и оказывали на окружающих, особенно на нас, мальчишек, своё влияние. У некоторых пацанов был свой такой опекун, бывший «зек», который не позволял старшим мальчишкам обижать опекаемого. У меня был Толик - парень лет 30 с выколотым на груди большим орлом.
Пацаны, которые были постарше, чем наша группа, умели делать ножи-финки с наборными ручками из алюминия, бука и цветных вставок. Потом они все делали так, как и написано у поэта: приходили к баракам, в которых за колючей проволокой содержались заключенные, и «на хлеб меняли ножики». А происходило это следующим образом. Старшие подсылали к вышке с охранником мальчишек помладше. И те канючили:
- Дядь, ну дядя! У меня тут братан сидит. Позовите его, а?!
- А ну, брысь!
Внимание охранника переключалось на мальчишек. А в это время за колючую проволоку старшие пацаны бросали нож. Обратно летел кусок хлеба. Надо сказать, что «зэки» не обманывали, и хлеб всегда отдавали.
Была ещё одна мода: мы доставали у матерей из швейных подушечек две иголки, обматывали их ниткой, обмакивали в тушь и выкалывали между большим и указательным пальцем синие якоря. Мы были ещё не того возраста, чтобы понимать, что к чему.
17.
В моих воспоминаниях охвачено 3-4 года, начиная с 1949-го. В общем-то, они похожи, и некоторые детали, относящиеся, например, к 1952-му году, а не к 1950, ничего не меняют в сути. И я уже где-то выше говорил, что пацаны, как могли, помогали своим родителям. В том числе косили траву, заготовляли сено (многие держали в сараях рядом с бараками кур, коз и даже коров, пока не запретили). В общем, белоручками мы не росли. Когда я приносил папе в котлован еду, например, мурцовку - то же, что и окрошка, только без мяса, а вместо кваса - кипячёная вода на постном масле, то брал у отца топор и, отставив по-плотницки ногу, обтёсывал слегу так, что плотники меня хвалили.
А когда папа застудился и перешёл работать в конный парк, я быстро вспомнил, как запрягать лошадь.
Теги: